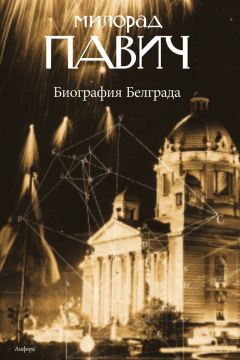Обосновывая неизбежность советско-германского договора о ненападении, некоторые авторы ссылаются на тот факт, что Англия и Франция еще раньше заключили с Германией аналогичные «договоры о ненападении». Комиссия по политической и правовой оценке советско-германского договора, к сожалению, также пришла к такому же выводу: если бы обе страны подписали только один договор без секретных протоколов, то он, по мнению Комиссии, только пополнил бы обширный каталог аналогичных договоров, которыми Германия была связана с Польшей (1934), с Англией и Францией (1938), с Литвой, Латвией и Эстонией (1939)[150].
Действительно, в январе 1934 г. было заключено германо-польское соглашение о мирном разрешении споров. Англо-германская декларация была подписана 30 сентября 1938 г. Чемберленом перед его отъездом из Мюнхена и аналогичная ей германо-французская декларация – 6 декабря 1938 г.[151]
Однако подобное сравнение неправомерно по ряду причин. Во-первых, общая военно-политическая обстановка осенью 1939 г. несопоставима с тем же периодом предыдущего года. Во-вторых, правительства Англии и Франции договорились с Германией о развитии добрососедских отношений, признавали отсутствие каких-либо территориальных споров и установили, что существующие границы между ними являются окончательными. Можно ли эту договоренность считать предосудительной? Почему она должна была вести к дестабилизации обстановки и вызывать какую-либо подозрительность советского правительства? В-третьих (и это представляется особенно важным), декларации имели открытый характер и не содержали секретных протоколов, направленных против интересов третьих стран. Наконец, в-четвертых, это были декларации, которые, как известно, отличаются от других договорных документов тем, что представляют собой заявление двух и более государств, устанавливающее их взгляды по определенным крупным проблемам и излагающее общие принципы отношений между этими странами. Поэтому они ни в правовом, ни в политическом отношении не имели характера договоров о ненападении. Декларации соответствовали принципам международного права и не могли быть источником международной напряженности, чего нельзя сказать о советско-германских договорах, подписанных в 1939–1940 гг.
Был ли неизбежен советско-германский договор? Некоторые авторы отвечают, «что в момент принятия решения – заключать или нет договор о ненападении с Германией (19–20 августа 1939 г.) – у Сталина выбора уже не существовало. Все шансы на достижение соглашений с Англией и Францией были полностью исчерпаны, что лишало альтернативы». Сторонники этой точки зрения так и назвали свою статью: «Пакт 1939 года: альтернативы не было»[152].
Если исходить из того, вытекал ли договор объективно из сложившейся в то время международной обстановки, то на этот вопрос следовало бы дать отрицательный ответ. Нет, он не был неизбежен, ибо все-таки существовала многовариантная альтернатива.
Вопрос об альтернативе в такой же степени важен, как и сложен. Его важность не нуждается в обосновании, ибо в ответе на него уже содержится, по существу, принципиальная оценка решения советского руководства и самого договора. Сложность определяется тем, что речь может идти только о построении гипотезы, некой модели вероятного хода событий, хотя и базирующейся на конкретных реальных фактах предыдущего периода.
В каком же направлении могло пойти развитие событий, если бы советское руководство отказалось подписать договор с Германией?
Первый путь. Советский Союз отвергает предложение Германии как неприемлемое или затягивает переговоры с ней. Одновременно терпеливо, но упорно, с готовностью к компромиссу он добивается заключения военного соглашения с Англией и Францией.
Второй путь. Если будет отсутствовать готовность Англии и Франции, а также Польши пойти на необходимый компромисс, Советскому Союзу можно было бы заключить договор с Германией, но включить в него статью, которая давала бы право его аннулировать, если Германия начнет агрессивную войну против третьих стран. Одновременно Советскому Союзу необходимо было продолжать осуществлять давление на западных партнеров по переговорам с тем, чтобы добиться от них более гибкой линии поведения.
Третий путь. Не заключать договор ни с Германией (по политическим и моральным соображениям), но при этом поддерживая с ней нормальные экономические отношения, ни с Англией и Францией, если они будут настаивать на совершенно неприемлемых для Советского Союза условиях. Это означало, что Советский Союз сохранял бы подлинный нейтральный статус, выигрывая максимально возможное время для лучшей подготовки к будущей неизбежной войне. Время работало на Советский Союз, а не на Германию.
Конечно, рассчитывать на подобные альтернативные решения можно было только в случае уверенности в том, что Германия при отсутствии договора с СССР не нападет на Польшу.
Таким образом, по нашему убеждению, альтернатива договору была. Но договор все же был подписан. Почему? Это оказалось неизбежным по другой причине: имея в руках неограниченную власть и считая свои решения безошибочными, Сталин воспользовался подходящим случаем для демонстрации своего политического нрава. «Сталин и Молотов заключали соглашение о сотрудничестве с фашистской Германией не потому, что иного выхода уже не было в сложившейся международной обстановке, а потому, что это был тот выход из сложившейся ситуации, которого они давно желали»[153]. Таково убедительно обоснованное мнение по этому вопросу Е. Гнедина, бывшего в те годы ответственным работником НКИД СССР и имевшего личное отношение к упомянутым событиям. К такому же выводу пришли историки В. М. Кулиш и А. О. Чубарьян: «Альтернатива была, но осталась нереализованной. Это важно сегодня с точки зрения нового мышления»[154]. Да, альтернатива была, но отсутствовало желание. Как говорили древние, желание – это тысяча возможностей, а нежелание – это тысяча причин.
При анализе вопроса о «вынужденной необходимости» заключения договора о ненападении неизбежно возникает контрвопрос: а кто же мог загнать Сталина в угол, из которого не было выхода, и вообще возможно ли было кому-либо произвести эту операцию? Загнать в угол Сталина мог только сам Сталин, и только в этом смысле можно трактовать договор как «вынужденную» меру[155]. Да, никто не принуждал Сталина идти на сговор с Гитлером, политический и моральный облик которого был хорошо известен. Но добровольно сделав этот шаг, Сталин по законам логики уже обязан был сделать второй и последующие шаги. Прав был великий мудрец Гете, воскликнувший: «Свободный – первый шаг, но мы рабы второго».
Некоторые исследователи справедливо утверждают, что договор 23 августа 1939 г. нельзя вычленять из предыдущей истории переговоров, в частности отрезать его от мюнхенского сговора, англо-германской и французско-германской деклараций и от некоторых других документов. Но с еще большим основанием мы не можем изолировать этот договор от последовавших за ним советско-германских договоренностей, имевших место вплоть до июня 1941 г. И все они в той или иной мере нанесли интересам Советского Союза серьезный ущерб. Правда, не все советские историки согласны с такой жесткой оценкой. Например, В. Александров, один из высококвалифицированных специалистов в области истории советской внешней политики рассматриваемого периода, положительно оценивает текст договора о ненападении. Он считает, что в нем «нет ни слова, ранящего кого-либо в Советском Союзе или за рубежом». Другое дело – «дополнительный секретный протокол», в котором нет ни одного пункта, не вызывающего протеста и сейчас, полвека спустя». И далее автор раскрывает причину: потому что «одно – результат советской, другое – результат сталинской политики»[156].
Подобная концепция вызывает по крайней мере три возражения. Во-первых, неправомерно рассматривать секретный протокол в отрыве от договора, так же как и зародыша от матки, в которой он развивается. Секретный протокол, как уже отмечалось выше, – это органическая часть договора. Во-вторых, думаю, что советского гражданина и особенно гражданина Польши больно ранило осознание того, что Советский Союз заключил договор о ненападении с государством – потенциальным агрессором, ибо Сталин определенно знал о намерении Гитлера в ближайшее время разгромить Польшу. И в-третьих, трудно представить, как автор понимает разницу между понятиями «советский» и «сталинский» применительно к тому времени. Можно ли серьезно считать, чтобы Сталин допустил подобное «двоевластие»?
Видимо, чувствуя уязвимость своей позиции, особенно по последнему пункту, автор уточняет, что «Сталину, наверное, хотелось бы переделать и государство, и партию полностью по своему подобию. Но они были сильнее тирана, и стоило свершиться XX съезду партии, как стала распрямляться подлинно советская политика»[157]. Но и это уточнение само нуждается в уточнении. К сожалению, в тот период все, что автор рассматривает в сослагательном наклонении, Сталину удалось осуществить, ибо тиран, пока он еще тиран, всегда сильнее и государства, и партии, и даже общества. Что же касается роли XX съезда, то подлинное «распрямление» советской политики произошло лишь через несколько десятилетий после этого безусловно исторического съезда.