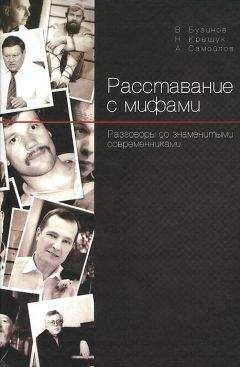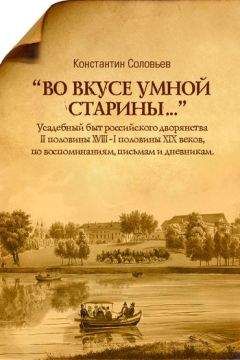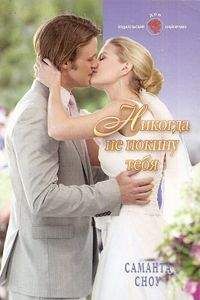Но раньше энкавэдэшников к нему подоспела смерть, которую он встретил с величайшим достоинством. Его многолетний друг прозаик Юркун был последним, кто навестил Кузмина в переполненной, душной палате Мариинской – тогда она была имени Куйбышева – больницы. Кузмин сказал с улыбкой: «Все закончено. Идите. Осталось оформить мелкие формальности». И едва Юркун вышел за дверь, как Кузмина не стало.
Ну, и наконец – Литейный, 46. Со стороны проспекта это ничем не примечательный доходный дом, построенный еще в середине XIX века по проекту архитектора Александра Пеля. Но чудо здесь – дворовые корпуса, поздние творения Александра Хренова; чудо – сам двор, разделенный шикарной оградой, за которой был когда-то тенистый сад. Сад частично сохранился, и в глубине его, по левую руку, стоит небольшой, но весьма благородных очертаний особняк. Тем, кто заглядывал в него, наверняка запомнились мраморные лестницы и великолепный плафон. Особняк строился для некого Феликса фон Крузе, которого затем в 10‑х годах XX века сменил в качестве владельца нефтепромышленник-миллионер Гукасов.
С великим размахом жил человек. И дух этой жизни на широкую ногу не покидал стены особняка даже в голодные годы военного коммунизма. Тогда бывшее жилище миллионера заняла Мария Федоровна Андреева, комиссар по театрам и зрелищам, на поклон к которой шел тогда в обносках полуголодный театральный Петроград…
Может быть, ее комиссарству способствовало то обстоятельство, что была она незадолго до этого гражданской женой пролетарского писателя Горького…
Художник Мстислав Добужинский, как-то пришедший к комиссарше на прием, обнаружил ее примеряющей новые туфли. Раздраженная, она ставила ногу на стул, вертелась перед зеркалом и вдруг недовольным тоном обратилась к Добужинскому: «Ну, Вы – художник. Посоветуйте что-нибудь».
Дом на Фонтанке и дуб на Мойке
– Совершая с Вами прогулки по Петербургу (популярные передачи «Прогулки по Петербургу» В. Бузинов ведет на «Радио России» – ред.), я не раз мог убедиться в остроте Вашей памяти…
– Память мне дарована от Бога. Силу этого дара я почувствовал впервые в школе, с легкостью запоминая страницы учебников. Память – мне в этом пришлось убеждаться в форсмажорных обстоятельствах – способна усваивать неправдоподобно огромный объем информации. В 1958‑м мне пришлось работать в Эрмитаже. Не искусствоведом, а в рабочей команде, среди тех, кто вечно что-то разгружает, переносит и двигает… Тогда Эрмитаж передавал немцам хранившуюся здесь с 1945 года коллекцию «Королевского кабинета гравюр и эстампов».
Из огромного штабеля я вынимал очередной альбом и выкладывал его на стол, за которым сидели эксперты: немец из Веймара и наши дамы. Дамам хотелось закончить работу скорее. Они надеялись, что немец лишь посмотрит первый номер и последний и сравнит с инвентарным списком. Но немец смотрел все подряд. Я пристраивался за его спиной и рассматривал вместе с ним прекрасные гравюры и эстампы. За две недели перед моими глазами промелькнуло почти полмиллиона изображений. Удивительно, но большую часть я способен вспомнить и сегодня…
– Есть нечто символичное в том, что Вы живете в коломенском доме, который сам по себе является одним из самых ярких адресов в путешествиях по Петербургу…
– Дом 185 по Фонтанке… Здесь после окончания Лицея жил Пушкин. Я попал сюда в 1979 году. Дом на Садовой, где я жил до войны и в блокаду, пошел на капремонт, и воистину чудесной силой обстоятельств меня вместе с женой и маленькой дочкой отселили сюда – к Пушкину. Бывшая пушкинская квартира находится прямо надо мной, а я занимаю две комнаты в бывшей квартире барона Модеста Корфа, сотоварища Пушкина по Лицею. Корф оставил о своем житии по соседству с Пушкиным любопытные воспоминания. В частности, говорится о ссоре, которая произошла между ними из-за того, что Корф, заступаясь за своего слугу, побил палкой «дядьку» Пушкина – Никиту Козлова. Пушкин вызвал Корфа на дуэль, но тот вызов отклонил, сказав: «Я не потому с тобой не буду драться, что ты Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер…» Он имел в виду известную дуэль между Александром Сергеевичем и таким же, как он, не в меру вспыльчивым Вильгельмом Карловичем… Мы с женой всякий раз вспоминаем этот эпизод, когда на третьем этаже над нами возникает какой-то шум: «Опять пушкинские слуги дерутся!»
Конечно же, это чудо, что я, в то время водивший экскурсии в Пушкинских Горах, поселился в доме, где когда-то жил Пушкин. Как, впрочем, чудо и то, что комнаты мои, да и всю нынешнюю коммуналку, занимал уже после Корфа великий, обожаемый мною зодчий Карл Росси. Он умер здесь в 1849 году забытый всеми, едва сводивший концы с концами. Хочется вспомнить и еще об одном моем предшественнике – клоуне Борисе Вяткине. Он въехал сюда сразу после войны, когда здесь обитали 29 человек. Его знаменитая Манюня – или несколько Манюнь – бегали по коридорам, где бегают сегодня две мои безвестные собаки.
– У Вас более ста историй, рассказанных во время наших совместных «Прогулок по Петербургу». Какая из них особо греет Вашу душу?
– Ну, вот хотя бы рассказ о старом дубе, что растет во дворе дома № 108 по набережной Мойки. По преданию, этот дуб уже большим деревом привез из Крыма Лев Александрович Нарышкин и тогда же, при Екатерине II, посадил его перед своим петербургским домом. Дуб воспет в 1799 году Гаврилой Романовичем Державиным: «Вот тот высокий дуб…» А уже в середине XIX века о нем вспоминает в своих комментариях к полным сочинениям Державина академик Яков Грот. Он пишет, что Турчанинов, директор тогдашнего демидовского «Дома призрения трудящихся» (каковым стал бывший нарышкинский дом), говорил ему, что под сенью этого дуба любила сиживать Екатерина II. Почти трехсотлетний дуб-ветеран, в отличие от других своих сверстников, погибших или погибающих «петровских дубов», и сегодня растет и даже плодоносит. Я думаю, что желуди от него следовало бы собирать, проращивать и высаживать в городе. Особенно в нынешнем, юбилейном для него году. Это было бы глубоко символично. Но, увы, нет никому в нынешнем Петербурге дела до такого рода символики…
– Когда ходишь с Вами по городу и слушаешь, может показаться, что у Вас, по крайней мере, три образования: историческое, филологическое и – это уж обязательно! – архитектурное…
– Архитектурное? Ну, пусть будет так… Интерес к архитектуре, видимо, проснулся во мне после жуткой блокадной зимы. Лето 1942 года стояло теплое, солнечное. Ленинград был полупустой, тихий и, невзирая на все раны, нанесенные ему, очень красивый…
Школа, куда я поступил учиться, находилась в так называемом доме Мятлевых, в самом старом здесь особняке XVIII века. Может быть, наряду с Исаакием и соседствующим с ним Адмиралтейством именно мятлевский дом с его чудесными, классическими очертаниями, четырехколонным портиком и барельефными панно по фасаду помог проснуться во мне чувству радости от созерцания всего того, что таит в себе выверенную гармонию форм. На Исаакиевской вообще-то я учился недолго; потом были безликие здания школ на Тамбовской и Воронежской и, наконец, – о чудо! – школа на Крюковом, 15, где в окнах нашего класса маячила умопомрачительной красоты колокольня Никольского собора…
Наверное, правы те, кто утверждает, что ребенок становится музыкальным еще в утробе матери, если постоянно играть для него Баха и Моцарта. Мне кажется, я был обречен полюбить архитектуру… Полюбить, постоянно любуясь ею. Кстати, оканчивал я 10‑й класс в школе № 236, как раз напротив Новой Голландии – еще одной из жемчужин петербургского зодчества.
Я никогда не задумывался в детстве и даже в юности, кем мне предстоит стать. Но с молодых ногтей я читал. Читал много, запойно, бессистемно и с величайшим удовольствием. Начинал, закутанный тряпьем в промерзшей блокадной квартире, с «Мифов Древней Греции» в пересказе братьев Успенских. Подростком я боготворил Гофмана и Гоголя, познакомился с Достоевским… Незаметно книгочейство стало моей болезнью.
В одной песенке Окуджавы есть такие слова: «Мы успели 40 тысяч книжек прочитать и понимаем, что к чему и что почем, и очень точно…» Понятно, что это перефраз Шекспира: «Я любил Офелию, как 40 тысяч братьев ее любить не могут…» Но 40 тысяч книг?! Я бы тоже хотел прочитать столько… Однако, по моим расчетам, сделать это в течение жизни человеку не удастся. Прочтет максимум 5 тысяч. Моя личная библиотека невелика: в ней около 2 тысяч книг. Впрочем, это мало о чем говорит… У Эль Греко их было 150, а у Чосера всего 60… Одна из книг, прочитанных мною еще во 2‑м классе, странным образом приоткрыла мою будущность.
– И что это за книга?