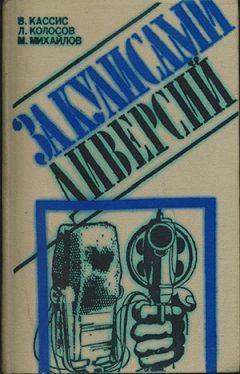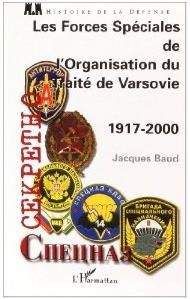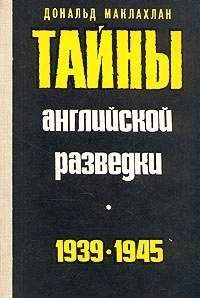Я записал. Но в театр не пришел, хотя за день до намеченного свидания Тамара Гальперина напомнила мне по телефону: «Не забудьте: завтра у вас Большой театр…»
Почему я не пришел в театр, порвав тем самым связь с Эйлин Натансон? Да просто не захотел быть предателем! И к Григоренко, и к Алексеевой, которые, кстати, уехали за границу и продолжают там бурную антисоветскую и антирусскую деятельность, и ко всем другим «диссидентам» — тоже больше не пошел. По той же причине: не захотел быть предателем… Стыдно признаться, но неоднократные разъяснения сотрудников прокуратуры, органов государственной безопасности, с которыми мне, конечно, приходилось встречаться при арестах своих, о том, что «диссиденты» работают на иностранные разведки, я расценивал как клевету, пропагандистский прием. А на поверку это оказалось правдой. Страшной правдой…»
* * *Так закончилась история знакомства А. Петрова—Агатова с американским вице–консулом Аллой Натансон, которая оставила столько грязных следов от своей грязной работы на Центральное разведывательное управление, сидя под крышей американского посольства в Москве.
Зимой на венецианском Лидо делать нечего. Впрочем, как и в самой Венеции… Свинцовые тучи вместе с едким туманом и мелким дождем съедают не только голубизну каналов, но и кружевную ажурность мостов, повисших над ними. От воды несет гнилью, от насупившихся дворцов замшелой старостью. Сыро, зябко и грустно. В отелях и пансионах полно свободных номеров. Цены на кустарные поделки из знаменитого муранского стекла падают почти до номинала. Без солнечных лучей их фантастические краски тускнеют и уже не побуждают легкомысленно вытаскивать портмоне.
Венецианцы не любят это время года. «Басса стаджоне», — печально говорят они. Первое слово имеет разные значения: «низкий», «мелкий», «тихий» и даже «подлый»… сезон. Говорят так потому, что сокращается число туристов, за счет которых процветают ремесла и торговля, и набегает очередная волна ревматических заболеваний — недуга предков, от которых страдают и старые и малые обитатели «Серениссимы» — «Светлейшей» — так называли Венецию во времена дожей.
А на Лидо и того хуже. Маленький островок, который силы природы растащили за два конца на двенадцать километров, превратив в узенькое лезвие суши на морском мелководье, становится пустынным от людей, как временное местожительство Робинзона Крузо. «Лидо защищает Венецию от Адриатики и помогает ей опустошать карманы туристов». Так утверждают жители «Серениссимы». То ли в шутку, то ли всерьез. А может, и всерьез. На Лидо нет ни каналов, ни мостов, ни дворцов. Но тут регулярно устраивается международный кинофестиваль, проводятся художественные и спортивные выставки, работают фешенебельные пляжи с золотым песком, ночные кафе с представительницами «второй древнейшей», которых в силу их внешней респектабельности не решаются трогать бравые ребята из полиции нравов, и крутится колесо рулетки муниципального казино… Но все это шумит, кружится, сверкает и беснуется в весенне–летне–осенний сезон, когда светит солнце и с моря дует освежающий ветерок. Зимой в промозглую противность сюда редко кто приезжает, хотя круглогодично работает казино. «Басса стаджоне» — сезон бедных или очень экономных туристов, которые не то что на казино, но и на извозчика тратить денег не станут… Традиционные черные пролетки с красными колесами часами стоят у небольшой пристани Лидо в отчаянном ожидании клиентов. Кажется, что и лошади всем своим понурым видом вопиют: «Садись, прокачу».
В один из ненастных февральских дней попали на Лидо и мы. Собственно, на острове делать нам было нечего, потому что приехали по делам в Венецию. Но так уж получилось, что от площади Сан—Марко отходил «диреттиссимо» на Лидо, то бишь прямой пароходик, а это — всего пятнадцать минут ходу. Поездив на грустном извозчике, постояв около дверей работающего, но пустого казино и побродив по забитым сувенирами магазинчикам самой торговой улицы острова, зашли мы в небольшую тратторию перекусить. Уютные столики в белоснежных мантиях скатертей, во всеоружии стекла бокалов и нержавеющей стали приборов были пустыми. Лишь за одним из них сидели трое — две пожилые дамы и еще более пожилой синьор. Кто–то из западных психоаналитиков, кажется Зигмунд Фрейд, которого считают большим специалистом по части всяких сексуальных теорий, утверждал, что если человек входит в пустое кафе, он обязательно сядет в углу спиной к стене, а если увидит одиночного посетителя, то постарается занять место поближе к нему. Такой феномен Фрейд объяснял пещерным атавизмом в психологии современного индивидуума. На заре человечества наши далекие предки в первую очередь старались защитить спину и быть поближе к соплеменнику на случай неожиданной опасности. Не знаем, так ли это, но, войдя в тратторию, не раздумывая выбрали столик неподалеку от начавшей свою трапезу троицы и сели на стулья, которые стояли у стены…
И тут нас ждал сюрприз. Наши случайные соседи говорили без всякого акцента на чистейшем россиянском языке.
— И все–таки удивительно глупо сравнивать Венецию с Петербургом, не правда ли, Мишель?
— Петербург с Венецией, хочешь ты сказать, дорогая. Не знаю, право. Туман от Невы имел другой аромат, да и вообще тогда мы воспринимали все по–другому: и туман, и архитектурные красоты, и нас самих. Будь так любезна, Анна, положи мне еще салату.
— Да, Петербург, Петербург, золотая пора. Помнишь, Любочка, как мы мечтали попасть на бал к Кшессинской? Интересно, что стало с ее дворцом?
— Кто-то из наших побывал в Петербурге туристом и говорил, что «товарищи» превратили дворец в милицейский участок...
— Не говори так громко, Аня, эти синьоры, как мне кажется, прислушиваются к нашему разговору.
Нам показалось, что сохранять инкогнито неудобно.
— Простите, пожалуйста,— сказал один из нас,— мы не прислушиваемся, а даже понимаем, о чем вы говорите. Видимо, мы соотечественники?
Пожилой господин перестал жевать и подозрительно посмотрел на нас.
— С кем имею честь?
— Мы советские журналисты.
Гладковыбритые щеки господина стали наливаться синевой.
— Мы не соотечественники, милостивые государи! Мы — враги-с! Да, да, враги-с! Думаете, что если вы вышвырнули нас из России, то мы не вернемся? Не мы, так наши дети или наши внуки, но вернемся и покажем вам, краснопузым...
Изо рта господина начали вылетать ошметки салата. Нам стало противно. Спорить с ним не имело смысла. Мы встали из-за стола, извинились перед официантом и пошли к выходу. А он продолжал хрипло орать нам вслед: «Не мы, так наши внуки! Запомните это! Вы еще услышите об НТС!»
Об НТС — Народно-трудовом союзе, возникшем из остатков белой армии, находившемся ранее в услужении фашистских разведок, ныне — у натовских секретных служб,— тоже слышать приходилось. И не только слышать, но и беседовать с некоторыми из представителей этой организации: «отцами», «детьми» и даже «внуками». По-разному оказывались эти «представители» в Советском Союзе. Одни приходили открыто, раскаявшиеся и готовые понести наказание за преступления против Родины, другие — тайно, нелегально, еще пытавшиеся пакостить и вредить на советской земле...
Евгения Ивановича Дивнича, с которым довелось встречаться, называли патриархом энтээсовцев. И это не случайно. Отец — офицер царской армии. Погиб на фронте в первую мировую войну. 1920 год. Дивнич вместе с семьей эмигрировал в Югославию, где кончил кадетский корпус. В студенческие годы одним из первых принял участие в создании Народно-трудового союза нового поколения (НТСНП), впоследствии переименованного в НТС. С 1934 по 1940 год был председателем НТСНП. В марте 1940-го формально отошел от организации. Формально, ибо был не согласен с практическими методами борьбы с Советской властью, хотя и оставался ее злейшим врагом... После освобождения Югославии от гитлеровской оккупации был арестован и осужден советским судом. С тех пор и до конца своих дней Е. И. Дивнич жил в Советском Союзе, а более точно — в городе Иваново, где и умер в ноябре 1966 года.
Незадолго до своей кончины он говорил: «Некоторые считают меня, что я симпатизирую большевикам. Утверждать подобное не только неверно, но и нечестно. Ни годы изоляции, ни риск расстрела не сломили меня. Не только я, но и те, кто шел рядом со мной и знает мою подноготную в любых критических ситуациях на подпольной работе, поведение на следствии и перед трибуналом, могут лишь возмутиться столь нелепым обвинением в мой адрес. Я просто не вправе скрывать то, в чем пора объясниться. Этого требует правда. Этого требует мой долг перед теми, кто ушел «туда» в угоду наших утопий и безрассудно погиб. И вообще настало время протереть губкой наши отношения. Уроки жизни многое изменили. Немало произошло и перемен. Накопились и коренные расхождения между нами. Я целиком включился теперь в жизнь своего народа».