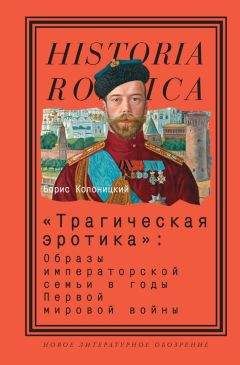И в сознании многих других современников разного происхождения и разного уровня образования религиозные сомнения, и тем более атеизм, были связаны с отрицанием монархии. Затем, став студентом университета, Булгаков, по его собственному признанию, настолько утвердился в своем антимонархизме, что некоторое время он даже мечтал о цареубийстве5. Немало русских юношей того времени хотя бы на миг примеряли на себя роль террориста, казнящего от имени народа «палача в короне»…
События 1905 – 1906 годов привели к тому, что Булгаков отверг путь революции, стал, по его собственному выражению, «почвенником», однако при этом он еще не стал монархистом, не полюбил царя и не поверил в монархию. Показательно, что он писал при этом о любви: «В мою “почвенность” идея монархии и монархической государственности отнюдь не входила. Вопрос о монархии есть, в сущности дела, вопрос любви или нелюбви (есть любовь и в политике), и я не любил Царя»6. Даже возвращение в церковь не изменило первоначального отношения Булгакова к империи и императору.
Однако в канун войны, по его собственному признанию, Булгаков стал «царистом». В данном случае его религиозная эволюция повлияла и на динамику политических взглядов. Булгаков, впрочем, также утверждал, что эмоциональный толчок для осознания его собственной любви к государю дала личная встреча с царем:
Не хочу здесь богословствовать о царской власти, скажу только, что это чувство, эта любовь родилась в душе моей внезапно, молниеносно, при встрече Государя в Ялте, кажется в 1909 году, когда я его увидел (единственный раз в жизни) на набережной. Я почувствовал, что и Царь несет свою власть, как крест Христов, и что повиновение Ему тоже может быть крестом Христовым и во имя Его. В душе моей, как яркая звезда, загорелась идея священной царской власти, и при свете этой идеи по-новому загорелись и засверкали, как самоцветы, черты русской истории; там, где я раньше видел пустоту, ложь, азиатчину, загорелась божественная идея власти Божьей милостью, а не народным произволением. Религиозная идея демократии была обличена и низвергнута, во имя теократии в образе царской власти7.
Внезапный акт своего перерождения в «цариста», полюбившего императора, Булгаков описывает как эмоциональное потрясение и религиозное озарение. Оно, очевидно, было подготовлено предшествующими событиями, философскими и политическими исканиями мемуариста, однако важным непосредственным толчком стала его собственная встреча с самим монархом. Автор дает понять, что и сама личность императора, а не только осмысленная по-новому идея монархии была важна для его перерождения, завершившего процесс десекуляризации его политического сознания. Он полюбил не только абстрактного Царя, олицетворяющего политический принцип монархии, живой символ российской государственности, но и определенного человека, царствующего императора Николая II. Разумеется, «царизм» такого особого человека, как Булгаков, был индивидуальным, по-своему уникальным, но и официальный монархизм, и монархизм многих правых радикалов был и религиозно-политическим, и эмоционально окрашенным. От верных подданных русского царя ждали и требовали не только корректного уважения носителя верховной власти, но и искренней любви к своему государю.
Однако объект политической любви Булгакова все же не соответствовал, по его мнению, образу идеального государя: последний русский император, к его сожалению, действовал и выступал «не как царь», но как полицейский самодержец, «фиговый лист для бюрократии». Подобно многим другим искренним монархистам того времени, Булгаков обличал «бюрократию», которая мешала-де слиянию народа и государя, и мечтал о том, чтобы лично повлиять на императора с помощью собственных откровенных посланий, которые, впрочем, он так никогда и не отправил царю.
Война первоначально сняла это болезненное противоречие между искомым идеалом и несовершенной действительностью: чувство любви к царю у Булгакова теперь уже ничем не омрачалось. Однако затем он вновь ощутил трагичность своего положения, от всей души желая любить своего императора, он в то же время не мог любить его искренне.
Отношения к царю такого незаурядного человека, как Булгаков, были, разумеется, особенными, его история трагической любви к императору была индивидуальной. Невозможно доказать, что она была типичной. Но была ли она исключительной? Во всяком случае, о любви к царю писалось и говорилось накануне революции немало.
Язык монархии издавна был эмоционально насыщен, нормативные требования монархической риторики предполагают использование языка любви и счастья. Именно такой язык и употреблялся современниками Николая II. Если читать официальные отчеты того времени, то может возникнуть обманчивое впечатление, что все верноподданные российского императора всегда были «безмерно счастливы», когда они имели счастливую возможность лицезреть «возлюбленного монарха».
Официальная риторика российской монархии предполагала и формулы нормативной сакрализации: словосочетание «Священная особа Государя Императора» встречается в различных документах. Для части современников эти постоянно повторяющиеся обязательные бюрократические формулы были застывшими, архаичными, потерявшими всякий живой смысл. Однако для части верующих, каковым был и сам С. Булгаков до своего превращения в «интеллигента», они все еще имели особое значение. Сакрализация, вообще неизменно присутствующая в политике, в условиях монархии приобретает огромную нагрузку, особенно в тех случаях, когда глава государства являлся и главой церкви. Многомерный и противоречивый процесс секуляризации общественного сознания, разворачивающийся в Новое время, не мог не затронуть монархическое сознание. Однако язык политической любви продолжал использоваться и в официальных документах, и в частной корреспонденции.
Некий провинциальный священник писал в ноябре 1914 года в личном письме: «Вчера наш Орел имел высокое счастье видеть на своих стогнах Государя Императора. Близость к нему порождает какое-то особое состояние, изобразить которое положительно невозможно. В нем соединяется и чувство удовлетворения, спокойствия и веры в себя, как частицы того великого, что сливается, объединяется в нашем Царе»8 (подчеркнуто в источнике).
Разумеется, вновь следует отметить, что устоявшиеся веками бюрократические формы монархической отчетности часто, хотя и не всегда, были лишь привычными штампами, использовавшимися издавна, они не давали представления о действительном эмоциональном состоянии людей, их употреблявших, даже и тогда, когда соответствующие слова проникали в личную переписку (хотя в данном случае автор письма прибегал к подобной риторике намеренно, осмысленно).
Однако постоянное употребление тех или иных слов, введение политических терминов в свой язык не проходит бесследно для людей, их использующих. Умение «говорить по-большевистски», которым в СССР овладели, добровольно или вынужденно, по разным причинам миллионы людей, имело огромные политические последствия9. Говорить же «по-монархически» жители Российской империи обучались веками.
Случай С. Булгакова свидетельствует и о том, что встречи, очные и заочные, подданных со своим императором не всегда были бесстрастными, хотя оппозиция «любовь – ненависть» не передает разнообразие сильных политических эмоций, овладевавших массами.
Показательно, что дискуссии об особенностях любви верноподданных к своему императору возникали на деловых встречах весьма влиятельных и очень занятых людей. Исключения не составляли и заседания Совета министров Российской империи: главы правительственных ведомств увлеченно и аргументированно спорили о своей политической любви к царю.
На важном заседании правительства 21 августа 1915 года обер-прокурор Св. синода А.Д. Самарин заявил: «Я тоже люблю своего Царя, глубоко предан Монархии и доказал это всей своею деятельностью. Но если Царь идет во вред России, то я не могу за ним покорно следовать». Рассуждения Самарина о болезненном конфликте между чувством любви к монарху и патриотическим долгом были направлены против утверждений председателя Совета министров И.Л. Горемыкина, который ставил знак равенства между монархизмом и патриотизмом, понятия «царь» и «Россия» были для него неразделимы. Самарин тем самым утверждал свое право любить царя по-своему, хотя и не отрицал за другими право любить его иначе. Горемыкин же, который сам характеризовал свои представления как «архаичные», не готов был рассуждать в духе монархического плюрализма, он отстаивал свое понимание любви к императору как единственно правильное: «Мое мнение сводится к тому, что воля Царя есть воля России, что Царь и Россия неразделимы, что этой воле мы обязаны подчиняться и что русскому человеку нельзя бросать своего Царя на перепутье, как бы лично ни было трудно»10.