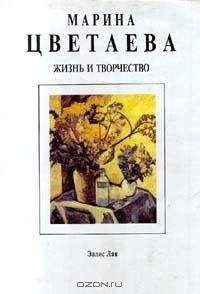Седьмого июля, отмечая военные сводки, Эренбург вновь записал: "Цветаева". Может быть, в связи с тем, что накануне в эвакуацию в Татарию по Каме отбыл первый эшелон Союза писателей и Марине Ивановне пришла мысль об эвакуации? Хотя в то же время она была озабочена поисками новой комнаты (нелады с соседями) и чуть ли не собиралась переехать в одну из двухкомнатных квартир Пастернака — сам он жил в Переделкине. Редактор 3. Кульманова вспоминает такие слова Цветаевой: "Борис Пастернак мог бы пригласить нас к себе на время на дачу".
По-видимому, Марина Ивановна затем раздумала ехать в квартиру Пастернака, и внезапно приняла другое решение: уехать прочь, хотя бы ненадолго, не видеть Москвы в преддверии паники, с ее заклеенными полосами бумаги окнами, мешками с песком, наконец — от ужасного зрелища уходивших на войну отрядов.
"Господи! — и для чего стольким простреливать грудь?" — вырвалось у нее ровно двадцать пять лет назад в Александрове ("Белое солнце и низкие, низкие тучи…") А пятнадцать лет назад, когда родился сын:
"Мальчиков нужно баловать, — им, может быть, на войну придется".
Она металась, она была в панике; второстепенное смешивалось с насущным, но все поглощала явная, стремительно приближавшаяся опасность, из которой не было выхода. Впереди маячил лишь тупик.
И тогда каким-то инстинктивным движением она решила спрятать голову под крыло. И уехала… к Вере Меркурьевой: станция Пески, погост Старки, десять верст от Коломны, а та, в свою очередь, — сто пятнадцать километров от Москвы, — неблизко. Вроде Тарусы.
Так, на исходе жизни, как некогда на ее заре, Цветаевой суждено было немножко пожить в среднерусской природе. В красоте, которую — впрочем, заметила ли?..
Вера Меркурьева оказалась надежным человеком: старая, больная, "неблагополучная", она, не в пример "благополучным" советским собратьям по ремеслу, поделилась с Цветаевой единственным, чем могла. Она с подругой снимала две комнаты в избе; в других двух комнатах жил А.С. Кочетков с женой. Рядом — переводчик С. В. Шервинский с семьей — на "руинах" родового имения его родителей. В Старках витал "дух" Анны Ахматовой, пять лет назад приезжавшей туда и осветившей жизнь Меркурьевой. Коломне Ахматова обязана строками, обращенными в 1940 году к Цветаевой:
То кричишь из Маринкиной башни:
"Я сегодня вернулась домой…"
Но этих строк, как мы уже говорили, Марина Ивановна никогда не увидела, а если б и увидела, то все теперь было ей совершенно безразлично. Она прожила эти дни, как тень. Именно тенью запомнилась она Шервинским: как "проходила мимо их флигеля в черном платке к колодцу". (Наверное, за "платок" приняли цветаевский беретик.)
Сама Меркурьева в феврале следующего года вспоминала, что в Старках Марина Ивановна была "такая — сама не своя, что чувствовалось что-то недоброе" и что была она "неузнаваемо постаревшей".
Там, в Старках, Марина Ивановна избежала кошмара первой бомбежки Москвы в ночь с 21 на 22 июля. На расстоянии более сорока километров было видно зарево от немецких осветительных ракет и пылающих домов…
Двадцать четвертого июля, повинуясь неостановимому беспокойству, в разгар бомбежки и паники, она вернулась в Москву. Нужно ли описывать ее отчаяние? Однако пока еще действовал, пересиливая все муки, ее внутренний закон, рожденный вместе с рождением сына шестнадцать лет назад: "Если бы мне сейчас пришлось умереть, я бы дико жалела мальчика, которого люблю какою-то тоскливою, умиленною, благодарною любовью". Его надо было спасать, увозить прочь от бомбежек, от крыш, куда падали зажигалки, а он, естественно, там дежурил. Но куда ехать? К кому? С кем?
Марина Ивановна была совсем, совсем одна. Вселенски одна.
Она оказалась в ситуации, напоминающей зиму двадцатого года, когда забрала тяжелобольную Алю из приюта, а на маленькую Ирину не хватило душевных сил; поблизости не оказалось никого, кто бы взял на свои плечи часть ее ноши. Но тогда Марина Ивановна была молода, — да и сама ситуация, при всей тяжести, была в какой-то мере легче, однако и тогда сил на всё не хватило…
Эренбург вспоминал, что в августе Цветаева приходила к нему, но разговора у них не получилось: он целиком был поглощен дурными сводками с фронта и фактически от нее отмахнулся.
Она непреложно знала: необходимо эвакуироваться. Мур резко протестовал; ему было интересно действовать: тушить на крыше зажигалки, он чувствовал себя героем. А Марина Ивановна сходила с ума от страха за него. Они ссорились, конечно.
Она собирала в Союзе писателей необходимые бумаги для эвакуации; соображала, что взять с собой, что оставить. Чемоданчик с наиболее, по-видимому, ценной частью архива, находившийся у Тарасенковых и возвращенный ей, она возьмет с собой. Остальное: книги, рукописи, вещи — отдаст поэту Б. А. Садовскому, жившему в одном из помещений бывшего Новодевичьего монастыря. Вещи "канут", то есть будут проданы; то же будет и с книгами; впоследствии, по настоятельному требованию Ариадны, бомбардировавшей близких письмами, цветаевский архив перевезут в Мерзляковский к Елизавете Яковлевне, и он будет спасен. Чемоданчик ("сундучок", — как напишет Марина Ивановна) спасет Мур…
Ходила Марина Ивановна в Гослитиздат, где у нее были доброжелатели. От П. Чагина, исполнявшего обязанности директора и некогда, без сомнения, помогшего вставить в план книгу ее стихов, взяла письмо в Татарское отделение Союза писателей, с просьбой использовать ее в качестве квалифицированной переводчицы. И другое письмо — от него же и с такою же просьбой — в Татиздат. Самоочевидная тщета…
А кроме того, Марина Ивановна пришла в Гослитиздат в редакцию литературы народов СССР, для которой делала многие переводы, к заведующей А. П. Рябининой, — с ней ее в свое время познакомил Пастернак — и передала Рябининой самое дорогое из своего архива: конверт, на котором написала: "Р. М. Рильке и Борис Пастернак (Gilles, 1926 г.)". Столь великое значение придавала она письмам своих "собратьев", перед которыми преклонялась; в архиве же своем оставила собственноручные копии рильковских и пастернаковских писем…
Все, кто видел тогда Цветаеву, вспоминают, как она была потеряна, несчастна, беспомощна и неуверенна. Однако это было не совсем так. Она приняла твердое решение: ехать с группой литераторов, отправляющейся в Чистополь и Елабугу.
Заплатила за дорогу. Сохранилась копия квитанции, выданной бухгалтерией Литфонда:
"6 Августа 1941 г.
Квитанция кассов. приход. ордера N 1589 Принять 175 руб. 40 коп. от Цветаевой за проезд на пароходе до Елабуги 2 билета по 41 р. — 82 р. 2 багажа по 46 р. 70–93–40…"
Заказала на раннее утро восьмого грузовик до речного вокзала. По-видимому, даже самые близкие люди: друзья Ариадны Самуил Гуревич и Нина Гордон ничего о том не знали. Нина Павловна Гордон вспоминает, что накануне, седьмого, им удалось уговорить Марину Ивановну повременить с отъездом, подождать следующей писательской группы, и что как будто убедили ее, — хотя в ее комнате все было "вверх дном — сдвинутые чемоданы, открытые кофры, на полу — большие коричневые брезентовые мешки". А на утро следующего дня узнали, что она все-таки уехала.
Об отъезде Цветаевой знал Борис Пастернак. Он приехал ее проводить на речной вокзал. С ним был молодой поэт Виктор Боков, отправлявший вещи жене в Чистополь. Цветаеву с сыном он видел впервые, однако не преминул вынести свой суд над Муром, ссорившимся с матерью и не желавшим уезжать[143]. (Заметим: все, кому не лень, судили и продолжают судить сына Цветаевой — не давая себе труда задуматься, что тем самым они перекладывают всю вину за гибель Поэта с эпохи, общества, системы, отдельных непорядочных людей — на плечи несчастного мальчишки.)
…Ей помогли погрузить нескладный, громоздкий багаж. Все: от одежды и кастрюль до столового серебра и французской шерсти на продажу — было кое-как набито в мешки и тюки. Сохранилась бумажка:
"Цветаева
мест 5
до Елабуга14
8/VIII 41".
Приезд. Поиски работы. Путешествие в Чистополь. 26 августа. Последний образ Марины Ивановны. Возвращение в Елабугу. 30 августа. Конец.
Плаванье заняло десять дней. Сначала в Горьком пересели на другой пароход и поплыли в Казань: оттуда — в Чистополь. В Казани Марина Ивановна отправила письмо на имя Т. Имамутдинова, председателя правления Союза писателей Татарии. Просила помочь устроиться и работать в Казани: "Надеюсь, что смогу быть очень полезной, как поэтическая переводчица" — вряд ли она сама верила в эти слова… Было и другое ее письмо, оно не сохранилось. В Казань она никогда не попала и письма от Чагина никому не передала.
Она держалась отчужденно, курила, нервничала. Наступил непривычный досуг, и с неотвратимостью судьбы стало наползать: а есть ли смысл для нее продолжать существование? Муру нужно жить, он будет жить, а она… Ее мозг, великий отравитель, работал без "сбоя"… И не только мозг, но — интуиция, знание наперед. Ведь когда еще она сказала: