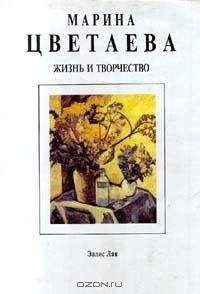"Этой-то последней крупицы рассудка достаточно для уцеления… Ибо мало, беспредельно мало, несказанно, неисчислимо мало нужно, чтобы не погибнуть, не дать увлечь себя в небытие…" ("Искусство при свете совести").
Да, у нее всю жизнь был роман со смертью, с небытием, с запредельностью, которые отпугивали, но чаще — манили.
Она все "примеряла" небытие: переход в другое состояние. В разные годы по-разному, но с неизменным и жгучим интересом. В 1925 году, когда умер ученый Н. П. Кондаков, — упорно думала "о его черепной коробке с драгоценным, невозвратимым мозгом… О бессмертии мозга никто не заботится…" А через десять лет, безумно уставшая и измученная, со страхом писала Вере Буниной о том, что существует переутомление мозга, и ей надо торопиться, хотя — "пока еще я владею своим мозгом, а не он — мной".
Да, рано или поздно это должно было произойти… После возвращения на родину этот срок — час — миг — с неотвратимостью рока стал катастрофически быстро приближаться. Жизнь обрушивалась сыпучей лавиной, не оставляя ни крохотного уступа, чтобы зацепиться. Последняя соломинка, показавшаяся в Чистополе на мгновенье надежной, вскоре оборвалась. Земной быт — совокупность всех обстоятельств — показал свои смертельные клыки и уносил последние силы. Невероятный, фантастический запас, заряд цветаевской энергии стремительно иссякал.
И вряд ли она смогла бы работать судомойкой; это был ее очередной мираж. "Не могу" — сильнее чем "не хочу", природнее, неизлечимее — такова ее давняя мысль. Чем дальше, тем меньше она могла — в той жизни, в которую вернулась. А если подумать о том, как разрушало ее сознание свершенной роковой ошибки — ее и мужа: возвращение. (Хотя и Гитлера она тоже боялась…) И как ее отчаяние и бессилие разрушительно действовали на сына…
А невозможность творчества, писания? Жить = писать; писать = жить. Знак равенства. "Я без России обойдусь, без тетради — нет". Наконец следует вспомнить слова Сергея Яковлевича о ее острой жизнебоязни…
Жизнь уходила от нее. И рассуждения о том, что будь у Мура другой характер, он бы удержал ее на земле, представляются несерьезными. В лучшем случае она продержалась бы чуть дольше — равно как если бы ей сразу же дали это пресловутое место судомойки. А ведь предстояли черные зимние ночи, которых она так боялась в Болшеве и Голицыне, рядом с Москвой, здесь же была полная глушь. Продержалась бы совсем недолго, до очередной вспышки ясновидения, непреложно осветившей невозможность, неможностъ дальнейшего существования[145].
…Ее отчаяние, начавшееся с того момента, как она узнала о войне, усилившееся в дни эвакуации почти до полной паники, продолжало нарастать. "Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание", — вспоминал повзрослевший Мур год и четыре месяца спустя в письме к другу Ариадны Самуилу Гуревичу. И признавался, что злился на мать "за такое внезапное превращение".
("Превращения" не было. Просто не стало сил сдерживать ужас.)
На следующий день после возвращения из Чистополя, 29 августа, Мур записал в дневнике, что они с матерью решили ехать в Чистополь.
А 30 августа Марину Ивановну отговорили от этого две знакомые женщины из эвакуированных в Елабугу. Посоветовали узнать насчет работы в огородном совхозе. Работы там для нее не нашлось. В отчаянии она пыталась советоваться с сыном. Но что он мог посоветовать? Он сердито записал в дневнике: "Мать как вертушка: совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня "решающего слова", но я отказываюсь это "решающее слово" произнести, п. ч. не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня".
И вот, в полной ясности мысли, пока еще она владеет своим мозгом, она совершает свой последний, единственно возможный и единственно верный поступок: сама распоряжается своим правом на жизнь. Настал момент, к которому она была готова всегда.
Она уговаривает себя, что без нее сыну будет легче. Однако не нужно в этом доверять ей. Ибо во всех своих помыслах, во всех своих земных отношениях Марина Цветаева, великая личность и великий эгоцентрик, исходила исключительно от себя, — сколько бы ни считала и ни доказывала, что действует ради другого.
Было воскресенье, 31 августа. Хозяева ушли, Мур — тоже: по одной версии — на расчистку места под аэродром, по другой — в кино. Марина Ивановна осталась одна.
Она не бросилась в Каму. Нашла "крюк" — гвоздь — в сенях дома Бродельщиковых…
Быстро написала последние в жизни записки…
"Мурлыга! Прости меня но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик".
И здесь, в этом последнем своем действии, Марина Цветаева предстает во всей очевидности своей великой двоякости. Обожая сына, дрожа за него, как за малого ребенка, она, в сущности, предает его, покидает его, сдавая на руки — кому? людям, которых толком не знает, но которым безоглядно и слепо доверяется: семье Асеева. Она пишет:
"Дорогой Николай Николаевич!
Дорогие сестры Синяковы!
Умоляю Вас взять Мура к себе в Чистополь — просто взять его в сыновья — и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю.
У меня в сумке 150 р<ублей> и если постараться распродать все мои вещи.
В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачки с оттисками прозы.
Поручаю их Вам, берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына — заслуживает.
А меня — простите — не вынесла.
МЦ.
Не оставляйте его никогда. Была бы без ума счастлива, если бы жил у вас.
Уедете — увезите с собою.
Не бросайте".
Последняя записка:
"Дорогие товарищи!
Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может, отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы — страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему и с багажом — сложить и довезти в Чистополь. Надеюсь на распродажу моих вещей.
Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мною он пропадет. Адр<ес> Асеева на конверте.
Не похороните живой! Хорошенько проверьте".
* * *
"Акт о смерти N 283
ЦВЕТАЕВА МАРИНА ИВАНОВНА
Пол женский, русская. Время смерти 31 августа 1941 года.
Исполнилось 49 лет.
Род занятий: эвакуированная.
Где работала: в г. Москве, Гослитиздат.
Адрес: г. Елабуга, Елабужский р-н, ТАССР, ул. Ворошилова, д. 10.
Причина смерти: асфиксия при задушении.
На основании справки от врача от 31/VII — 41.
Паспорт — сдан в милицию.
Ф. И. О., адрес заявителя: Эфрон, ул. Ворошилова, д. 10.
Подпись: Г. Эфрон. Свидетельство о смерти выдано 1/IX — 41 г."
Похоронили Марину Цветаеву 2 сентября.
* * *
Быт и бытие. Их противостояние. Их… согласие (!) Ибо 31 августа 1941 года бытовые (земные) и бытийные (запредельные) причины и побуждения слились воедино…
* * *
Так край меня не уберег, Мой, что…
1982–1984
1987–1991
1994, 1995
1. Ариадна Эфрон. Из письма к А. И. Цветаевой от 13 июня 1966 г
<…> Относительно Голицынской хозяйки[146]; у меня лежат ее чудовищные воспоминания, ни в чем и ни с чем не совпадающие фактически — ни со временами, ни с людьми; вправе ли она творить легенды? Конечно, как каждый, но не выдавать их за сущее и бывшее.
В воспоминаниях Серафимы Ивановны мама называет Мура "Жорой"(!), дает за табльдотом пощечину своему первому мужу, якобы не "узнавшему" ее <…> после чего закатывает истерику, а С. И. отпаивает ее валерьянкой; прощается с Крымовым, уходящим на войну в день 22 июня. Мамина запись в тетради: "22 июня война; узнала по радио из открытого окна, когда шла по Покровскому бульвару", — кажется дальше — куда шла? получать гонорар в Гослите; уже давно жила в Москве, в Голицына никогда не возвращалась. Ни одного слова правды! Но тем не менее за всеми удивительными смещениями памяти я поняла и почувствовала искренность и взволнованность посмертного отношения к маме, написала С. И. ласково и учтиво; потратила три полных рабочих дня, чтобы по маминым записям, по ее и к ней письмам того времени и по Муриному дневнику, каждый день ведущемуся, показать ей, где и в чем она ошиблась, где подвела ее и в чем- память; она ведь хотела публиковать этот бред. Упросила ее публиковать, только уравновесив фактическую сторону; нет, не было у мамы первого мужа, кроме папы; нет, не отвешивала она пощечин за табльдотом; нет, не возила она два раза в неделю продуктовых передач в тюрьму — их принимали <…> только деньгами: 50 руб. в месяц; можно было единовременно, или дважды или трижды — разделив эту сумму. Нет, не ее провожал Крымов на станцию и не с ней он прощался уходя на фронт — они были в Голицыне в разные годы: в июне 1941 г. мама с Муром жили в Москве, она переводила Лорку (последняя в жизни ее работа), и в Голицыне ее и ноги не было и т. д. Тут нет никакой моей предвзятости: есть документы того времени — день за днем, шаг за шагом. Я счастлива, что это сохранилось.