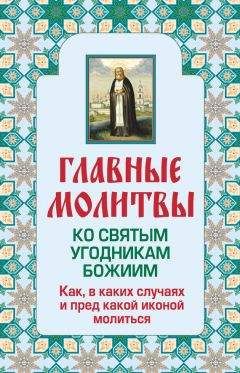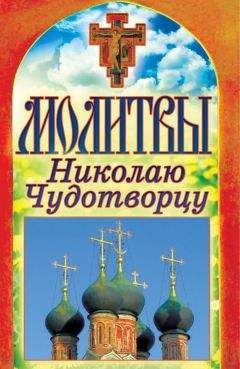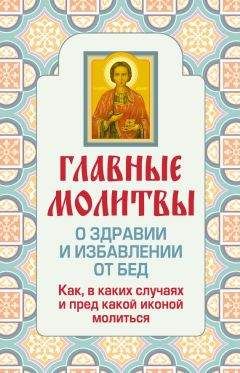с такими травмами в таких условиях. Его обвиняют в терроризме, пособничеству боевикам. Видимо, поэтому его заставили произнести бесчисленное количество раз фразу «Я люблю Башара Асада!» Через пятнадцать минут после начала пытки он во всем признался: и в любви к президенту, и в том, что замышлял участвовать в организации революции (где логика?). Какая революция и какие демонстрации, он точно не знал. Обещал признаться во всем ради быстрой смерти, но его продолжали бить, пока он не охрип, а потом — стих. Как удостовериться, правда ли то, в чем его обвиняют? В нашей камере половина заключенных невиновны, а их все равно пытали. Почему он там истекает кровью, а я здесь пишу этот дневник, я тоже не знаю. Но мне никого не жалко. Мне все еще больно, но уже не жалко. Я просто хочу выжить. Я просто хочу выбраться отсюда.
Я чувствую себя плохой предсказательницей. Даже неудобно перед Кристиной. Про понедельник она мне и правда поверила.
Когда очнулась сегодня, то выяснилось, что пока я спала, в камере случилось много чего интересного. Во-первых, Кристина заболела. Во-вторых, я проспала больше шестнадцати часов — кажется, скоро и я заболею. В-третьих, Кристина четыре часа провела в госпитале при полицейском участке (такой есть!), а я даже не проснулась, так меня рубануло.
В госпитале Кристине не поверили, что она больна. Тошнота и диарея— нормальное явление в нашей камере. Еду по кучкам заключенные раскладывают там же, где и пытают. Порой хлеб, который попадает к нам в камеру, пропитан кровью. В камере почти каждый день кого-нибудь выворачивает наизнанку. Все решили, что мы захотели особых условий содержания, и отправили ее обратно в тюрьму.
Кристине было совсем нехорошо, и я не знала, что делать. Она побледнела и еще больше осунулась. Ей было тяжело вставать, она жаловалась на головокружение и острую боль в животе. Наверное, она отравилась.
Боли в животе были такие сильные, что она не могла шевелиться. Потом у нее посинели губы, и меня охватил ужас. Я поняла, что все паршиво. Кристина, еле переводя дыхание, попросила меня позвать на помощь.
Я постучала в дверь, а когда охранник назвал меня дрянью, сказала, что Кристине очень плохо.
— Сообщи нам, когда она подохнет! — был ответ.
Я не хотела думать о таком исходе событий и продолжала стучать. Снова подошел надзиратель. Он несколько раз ударил чем-то тяжелым в нашу дверь, выругался и сказал, что если я еще буду шуметь, то он выльет в нашу камеру пару ведер воды.
Женщины оттащили меня от двери и закрыли рот, потому что самостоятельно я сделать этого не могла. Я не помню, кто меня держал, кто затыкал рот. Помню только, что лицо Зиляль было очень близко к моему и что она все повторяла одно и то же: мне нужно замолчать.
В конце концов я разревелась и меня отпустили. Я подошла к Кристине, взяла ее за руку и сказала, что не знаю, что делать.
Нахед успокаивала меня и говорила, что Кристина поправится, как и все остальные, кто травился до нее. Я ей не верила. Я не знала, что думать. Я не знала, что делать.
Вроде как планировалось, что первой должна помирать я, причем помирать долго, чтобы начальство действительно заволновалось, зачесалось и дало приказ о нашем переводе в Дамаск. Я говорила себе: «Стоп! Все должно быть не так! В каком месте нашего плана мы просчитались? Как же так получилось?..» Но вот она я, здоровая, и вот лежит Кристина, бледная, как скатерть, с синюшными губами. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что она умирает. Действительно умирает! А я даже присесть рядом с ней не могу, потому что там ни сантиметра свободного пространства.
Я сидела на своем месте и ревела. Женщины хотели меня как-то утешить и начали говорить, что они сделают, когда выйдут на свободу. Оказалось, в эту игру играла не только я. Все мечтали о том, чтобы этот момент поскорей наступил.
Все хотели одного и того же: обнять родных, поесть нормальной еды, избавиться от вшей, погулять по знакомым местам. Одна женщина сказала, что ей надо выйти на свободу, потому что она должна соседке денег. Другая, Рима, заплакала. Ее арестовали на улице, и она не успела найти кого-то, кто смог бы позаботиться о ее несовершеннолетних детях, которые сидели дома одни. Их у нее трое. Старшей девочке тринадцать. Больше всего Рима боялась, что ее дочь могли изнасиловать.
— Если что-то случится с моими детьми, то я вернусь сюда и взорву все это здание! — сказала она.
Все промолчали в ответ, а Заира, которую посадили за то, что она работала снайпером на Свободную армию, усмехнулась.
— Еще полгода назад у меня была семья, — сказала она. — У меня был муж и трое детей. Как-то ночью я пошла на кухню, налила себе в стакан молока и хотела уже выпить, когда бомба снесла половину нашего дома. В квартире уцелела только кухня. Все, что осталось от моей семьи, — это я и полстакана молока. И мне плевать, жалко тебе меня или нет, но ты теперь такая же, как я. Жизнь не будет прежней. Не важно, сколько ты убьешь. Это уже ничего не изменит.
— Я и себя взорву! — закричала Рима и заплакала. — Взорву! Взорву! Взорву!
Снаружи по нашей двери несколько раз ударили чем-то тяжелым. Мы приготовились к залпу холодной воды, но полицейский сказал нам с Кристиной собираться.
Было далеко за полночь. Я собрала наши вещи, сделала устное завещание касательно нашей еды, которая оставалась, потом попрощалась за двоих со всеми, потому что Кристина не могла даже идти без моей помощи, не то что разговаривать.
Я перекинула ее руку через плечо и встала. Дверь открылась, и мы пошли. Меня обнимали на ходу, а те, кто стоял в толпе, тянули руки, чтобы дотронуться до моего плеча на прощание. В дверях я остановилась и обернулась. Женщины махали нам.
— Помолитесь там за нас!
— Не забывайте нас!
— Бог с вами!
— Расскажите о нас!
Я слышала это со всех сторон. Нахед плакала. Патрон, Марьям, Умм Латыф — тоже. Все ревели и желали нам, чтобы уж сегодня нас действительно перебросили в Дамаск. Все они оставались, а мы ковыляли к свободе.
В машине мы с Кристиной держались за руки, чего никогда не бывало раньше. Все наши обиды друг на друга и разногласия разом исчезли.
В академии мы встретили Хасана, который,