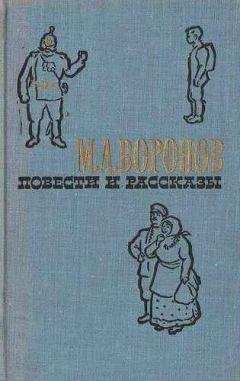Не то, совсем не то жизнь афериста.
Аферист, во-первых, имеет квартиру (иногда очень хорошую), имеет обед, имеет одежду; он даже редко ходит пешком, а по большей части катается на рысаках — на лихачах. Наружность его очень прилична. Нередко, обдумывая какой-нибудь воровской план, он прохаживается с сигарой по бульвару, причем заинтересует своей задумчивою физиономиею не одну купеческую дочку. Этот вор — самый гнусный вор! Гнусен он потому, что до воровства он доходит не по нужде, не ради холода и голода, а по стремлению к легкому труду или ремеслу — легкому потому, что такой человек затратил постепенно на него весь свой умственный капитал. Воры этой категории поражают очень многих своей ловкостью; недалеким людям они, так же как и Талейраны, кажутся просто гениями, потому что недалекие люди ловкость известного рода считают умом, совершенно забывая, что с умом необходимо связаны честь, совесть, правда. Такие недалекие люди совершенно забывают, что он воровски умен, то есть потому, что другие, будучи честно умны и действуя в сфере правды и совести, никогда не подозревают ловушек там, где, по понятиям честного человека, их не должно быть, — он силен человеческой слабостью.
Остальные категории воров все заключены между скромным бедным забирохой и величественным аферистом, и степень материального довольства определяется тут степенью отдаленности от того или другого конца.
Многим странным покажется, каким образом воры-отцы, сознавая всю гнусность и непрочность своего ремесла, пускают по той же дороге и детей, к которым нередко питают самую горячую любовь. Некоторые верят даже сказкам о том, что существуют будто бы школы, в которых обучают детей воровскому ремеслу. Ничуть не бывало; в Москве по крайней мере таких школ положительно нет; а если родители предоставляют детям изведывать все невзгоды своего ремесла, то это случается без их воли и желания, а именно в силу тех же неотразимо гнетущих обстоятельств, которые повалили и самих родителей. Воры-родители, вечно слоняясь по городу, сообразно своему занятию, предоставляют детей самим себе; дети голодают, холодают и наконец выталкиваются на отцовскую дорогу теми же недругами, какие ведут по пути преступлений и их родителей. Привыкнув к порокам с детства и рано огрубев под тяжестью лишений, потомок-вор в двенадцать-тринадцать лет уже совершенно закаляется в этом грязном и преступном омуте, его трудно свести уже в эти годы с избранного пути — тем более трудно, что нередко с детства он делается опорой, кормильцем и поильцем целой семьи. Наконец, кто знает местности вроде Грачовки, Дербеновки, Мошка, Щипка и проч.[4], местности, исключительно населенные жуликами, тот поймет, как трудно сберечь ребенку (заметьте, самому!) нравственность в подобных помойных ямах. Кто видел этих детей с старческими, морщинистыми лицами, с хриплыми голосами, с грубой, вечно циничной речью — тот поймет, что из грязи не выйдет золото, а из сгнившего нравственного дитяти не вырастет здоровый человек. Посмотрите на игры этих несчастных, с утра до вечера без приюта слоняющихся из угла в угол, посмотрите на обращение с ними старших, на презрение, оказываемое им отовсюду, — и вы поймете, что пути из такого ребенка не может выйти: где посеяны волчец и терние, там не взойдет пшеница, поверьте…
Я жил в крепости уже около месяца. Семейство моих соседей несколько раз праздновало какие-то случайные получки денег, несколько раз затевалось в скромной комнате великое пьянство: бушевал отец, ругался сын и вопили мать и дочь. Но вдруг все стихло, и стихло на довольно продолжительный срок, так что я даже осведомился у хозяйки, что сталось с моими соседями. Оказалось, что сын где-то сильно проворовался и теперь скрывается, потому что его ищет полиция; отец, получивши от сына некоторое количество денег, тоже пропал без вести: а мать бегает и отыскивает мужа и сына; дочь же Саша потому не являлась домой, что делать тут ей нечего.
Раз, ночью, я был разбужен голосами в комнате соседей.
— Где же тятька? — спрашивала Саша.
— Да бог его знает, — отвечала мать. — Вон Яшутку-то, мотри, словили — пропадет теперь.
— А он где?
— Известно где: скрывается.
— Видела ты его? — спросила Саша.
— Видела. Молчи! спи!
Наутро явилась полиция. Я слышал, как грубый, начальнический голос расспрашивал хозяйку, где живет Андрей Дмитриев и не у него ли скрывается сын, Яков Андреев? Хозяйка объявила, что хотя Андрей Дмитриев и живет у ней, но что его теперь нет дома; а если его благородию угодно, то можно видеть жену Андрея Дмитриева. Начальство вошло в комнату соседей.
— Ты кто такая? — обратился начальник к старухе.
— Вера Павлова, ваше благородие.
— Жена Андрея Дмитриева?
— Так точно, ваше благородие.
— Где же муж?
— Не могу знать, ваше благородие: четвертый день не бывал дома.
— А где сын, Яков Андреев?
— Тоже не могу знать, ваше благородие: вот шестые сутки не вижу.
— Врешь!
— Убей меня бог, ваше благородие!
— Ты его скрываешь где-нибудь. Врешь!
— Никак нет, ваше благородие. Как перед господом богом…
— Экие подлецы! — рассуждал полицейский чиновник, — в своем квартале грабят, как будто Москва-то клином сошлась! Ты скажи своему Якову, — обратился чиновник к старухе, — что напрасно он бегает — отыщем… Отыщем, и уж тогда не отвертится — прямо в Сибирь! Я покажу, как марать мое имя!
— Он, ваше благородие, может быть в этом деле не виноват, потому…
Старушка заплакала.
— Хорошо, хорошо, там увидим, как не виноват, — грубо возразил полицейский и вышел.
Весь день старушка мать и Саша провели в хлопотах: они бегали куда-то, часто появлялись в своей конурке, шептались, приносили и уносили что-то.
Вечером, часов в шесть, в сенях раздался грубый, полунасмешливый голос каких-то людей: «Ну-ка хозяйка, принимай гостя»; затем послышался взвизг хозяйки, и через секунду двое полицейских принесли в комнату соседей умирающего старика, которого они подняли где-то на улице.
— Ах, батюшки мои! Ну-ка, он помрет! — вопила хозяйка.
— Туда и дорога, — заметил один из стражей. Явились мать и дочь. В комнате поднялся плач.
— Андрей Митрич! голубчик! — звала мать, тормоша окоченевшего старика.
— Тятенька! миленький! — кричала дочь. Но ответа не было.
Неподалеку жил студент-медик, позвали его; тот для очистки совести отворил кровь — кровь не пошла. Студент постоял, постоял, помотал головою и вышел. Старик умер.
— Батюшка ты мой! кормилец, поилец ты наш! охо-хо, хо-хо! — вопила старушка, припав головою к груди старика.
Саша тоже плакала.
Через несколько времени вошла ко мне хозяйка.
— Слышали: умер?
— Да.
— Без покаянья умер-то, — заметила хозяйка.
— Чем же она хоронить его будет? — спросил я.
— У них есть теперь деньги, — шепотом сообщила мне хозяйка.
— Откуда же?
Хозяйка приложила палец к губам, осмотрелась, боясь даже стен: «ну-ка подслушают», — и тихонько произнесла:
— Яков-то с товарищами купца какого-то ограбил, тыщи три, слышь, у него сблаговестили, так он, говорят, с матерью-то поделился, сотни две дал, — прибавила хозяйка уже так тихо, что последние слова я скорее разобрал по движению губ, чем по звукам голоса.
— Где же теперь Яков?
— Скрывается. Ну, да уж Сибири не миновать. Вчера ночью здесь был. «Ежели, говорит, пашпорт успею выправить, убегу, говорит, отсюда». Вчера, поди какое пиршество у нас тут было: одного донского никак дюжины две выпили, — добавила словоохотливая баба, тихонько выползая из моей комнаты.
Ночью, когда я уже загасил свечу, кто-то вошел в комнату соседей. Сквозь щелку в перегородке я посмотрел туда и увидел Якова. Он был одет щегольски: красная шелковая рубашка, кафтан тонкого сукна, плисовые шаровары и высокие с бураками сапоги. Лицо Якова опухло от пьянства. Он подошел к кровати, где на грязных лохмотьях лежал мертвый отец, и не то улыбнулся, не то скорчил кислую гримасу при виде покойника — не разберешь.
— Гроб-то закажи, — обратился Яков к матери, — да саван, что ли, ему сшей, — равнодушно изрек он и, позевывая, вытащил из кармана депозитку, которую и сунул в руки старухи. — Ну, я пойду, — добавил он, — завтра, может, пашпорт получу, — там прощайте!
— Как же мы-то останемся, Яша? — спрашивала мать.
— Как оставалась до сих пор, так и теперь останешься.
Старуха захныкала.
— Бога в тебе нет, Яша!
— Ишь ты на деньги-то очень падка.
— Да как же нам-то жить? — плакала старушка. — То двое были, а тут вдруг ни одного.
— Экое горе! А ты пореви, пореви — перебуди всех, дери тебя черти!
И Яков поспешно вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью.
Наступил день похорон. Мертвеца оплакали, как следует по обряду христианскому, и снесли в бедном тесовом гробе на кладбище. Так как у старухи были некоторые деньжонки, то устроились поминки. Собрались различные полуголодные бедняки, и пошел пир. Кутеж продолжался до глубокой ночи. Якова не было между пирующими. Наконец, часов около двенадцати, явился и он. Тихонько пробрался Яков в комнату матери, скромно поздоровался с пьяными гостями и осторожно вел себя довольно долго: видно было, что он боялся отыскивающей его полиции. Яков был совершенно трезв. Но к концу кутежа он не выдержал своей роли: выпивши довольно много, он вдруг почувствовал в себе необыкновенную храбрость, — грозил перебить всех, кто только осмелится дотронуться до него, послал за водкой и подбил товарищей затянуть песню. Через минуту молодецкие груди сильно заколыхались от громогласных звуков: