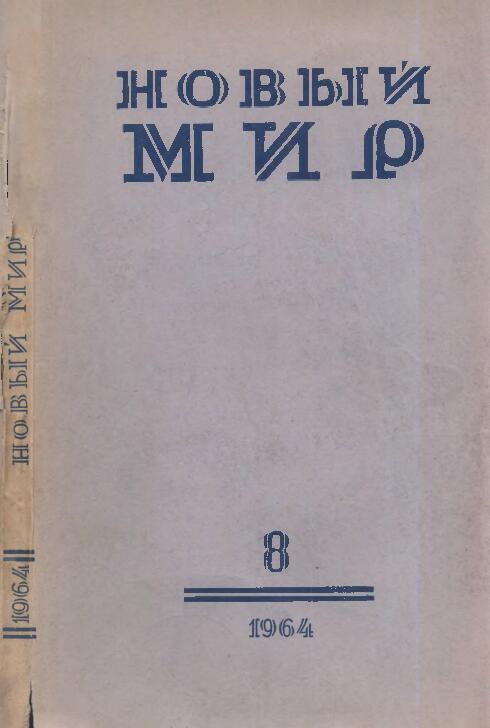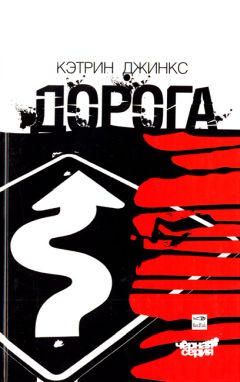за Волоховича. Но он сказал, что вряд ли сможет что-либо сделать, хотя и сожалел о случившемся.
Пятнадцатого октября ударил настоящий мороз. По реке пошла шуга, катер и лодки пришлось вытащить на берег. А вечером этого же дня состоялось заключительное заседание комиссии. Все так устали от речей и споров, что заседание закончилось неожиданно быстро.
— Показал бы нам свою невесту, — приставал Борисов к Рогожину, когда мы возвращались из штаба.
— Я сам посмотрел бы, с весны не видел, — отшутился Александр Петрович.
— А говорят, вы на одной перине спите.
— И строганину медицинским спиртом запиваем, — добавил Рогожин.
— Вот-вот, в этом роде, — поддакнул Борисов. — Ты только смотри, держи ухо востро. А то знаешь, как за тебя Татаринов сцепился с капитаном? Я думал: пришло трали-вали отделу кадров...
— Не все кадровики плохие, — уже серьёзно сказал Рогожин. — Одни с коллективом живут, каждого человека знают, а другие всю работу свою на доносах и анонимках строят. Начитается иной кадровик таких писем, и взъярится его душа, и в такую он злость войдёт, что готов растерзать человека. А отчего это? Неумные люди воображают, что если им известно что-то тайное, так они умнее и лучше всех. Может, поэтому и стараются при всяком случае раздувать своё кадило. Только вот какой святыне они кадят? Один такой мне заявил, что он больше, чем писатель, инженер человеческих душ: какую захочет, такую душу и построит. Я ему чуть в рожу не дал.
Комиссия теперь уже не смотрела на нас с подозрением и разрешила даже выдать к празднику премии. Мальков и Метёлкин хоть и продолжали шептаться с капитаном, но вели себя не так вызывающе, как в первый день приезда комиссии. Коллектив от них отвернулся.
Утром хватил мороз до тридцати градусов. По реке шла сплошная шуга, смерзаясь в льдины.
С нашей площадки, из посёлка, самолёты ПО-2 перевозили членов комиссии на косу, где стоял ЛИ-2. Вскоре заработали его моторы, и, взлетев, он взял курс на Игарку.
Волохович собирался завтра лететь в Салехард попутным самолётом. Мы решили устроить ему хорошие проводы.
Его любили все — взрослые и дети. С ним многие летали над этой угрюмой землёй, всегда веря в его талант лётчика и в его мужество. Жаль было расставаться с ним, обидно было за него. А он ещё успокаивал нас:
— Ничего, буду на заводе работать, руки есть, не пропаду. Вот только жить теперь, наверно, разрешат в любом городе — минус шестьдесят городов.
— Эх, не тебе бы это терпеть, — вздохнул Вася, обнимая товарища.
— Помалкивай, а то опять напишут, — сказал громко Рогожин, уставившись на Метёлкина, который решился прийти на проводы без приглашения.
— Ну и хрен с ними, — махнул рукой Болотов.
Разошлись поздно ночью. Утром проводили Мишу в Салехард, а всех начальников партий на их участки, чтобы готовить эвакуацию партий в Уренгой.
После ледостава первыми прибыли в Уренгой на оленях ближние партии Хмелькова и Абрамовича. За ними — партии Амельянчина и Моргунова. В Уренгое стало тесно. Посреди посёлка стояло два десятка чумов, а вокруг них с полсотни нарт. Русская речь смешалась с ненецкой, всюду слышались крики и смех людей, непрерывный лай и грызня собак.
Ненцы спешили получить расчёт и осаждали Пономаренко. Он должен был снабдить их продовольствием и всем необходимым на зиму, как было предусмотрено договором. Ненцы торопились на охоту за пушным зверем или в свои оленьи стада. «Белка шапка!» — слышалось тысячи раз в день, и Пономаренко крутился с утра до ночи. В помощь ему и кладовщику Аладьин дал Пугону — самого грамотного ненца. Но, кроме помощи, нужно было ещё и присматривать за нашим бойким хозяйственником...
Первого ноября мороз дошёл до сорока, а партии Соколова и Рогожина были ещё в пути. Можно было бы послать за ними самолёты, но новые лётчики не знали местности и опасались садиться на мелкий и ещё рыхлый снег. Как я жалел, что нет Волоховича! Он в паре с Васей давно перевёз бы всех в Уренгой, нашёл бы площадки на замёрзших озёрах или в других местах.
Я послал Васю на рекогносцировку, чтобы узнать, где движутся партии. Холодный мотор долго не заводился, мёрзло масло. Днём стало немного теплее, и ПО-2 поднялся в воздух. Вася слетал на восток, потом на запад и, вернувшись, сообщил:
— Соколов уже в долине Ево-Яхи, а Рогожин ещё не перевалил водораздел от Таза к Пуру. Обе партии держатся телеграфной линии.
К вечеру температура поднялась и пошёл снег, ночью начался ветер, а утром на Уренгой налетел вихрь страшней силы. Он с шумом пронёсся над домами-полуземлянками и чумами. Всё содрогалось. Тучи снега поднялись вверх и закружились, словно небо стало тёмным омутом. Мы с Мариной прислушивались и ждали.
И вот всё затрещало, завыло. Я хотел выйти на улицу, но меня тут же закидало снегом. Ветер сбивал с ног. Кругом было только одно беснующееся белое и холодное месиво. Это не было похоже ни на снежные метели русской степи, ни на сибирские бураны. Ветер и снег как будто решили свести последние счёты с землёй.
Двое суток хозяйничала пурга. Но вот красная чёрточка на термометре поползла вниз, и пурга унеслась вслед за рваными тучами.
Люди рыли проходы в снегу, откапывая жильё и занесённые дрова.
Днём в штаб с радиостанции прибежала взволнованная Марина: тяжело заболел Рогожин. В радиограмме было указано место, где находилась его партия. Я вызвал нового командира звена Тамбовцева и рассказал ему о несчастье.
— А кто нам обеспечит там площадку для посадки? — неуверенно спросил пилот.
— Надо самим выбрать, поблизости от их чумов. Они после пурги ещё не двигались, — пояснил я и, усвоив опыт Волоховича, добавил: — Там озёр много, все они хорошо замёрзли. А может, присмотрите с воздуха другое место, сейчас ведь везде снег и на лыжах можно сесть.
— Попытаемся, — ответил Тамбовцев.
Но сесть он не рискнул, и Рогожина повезли в Уренгой