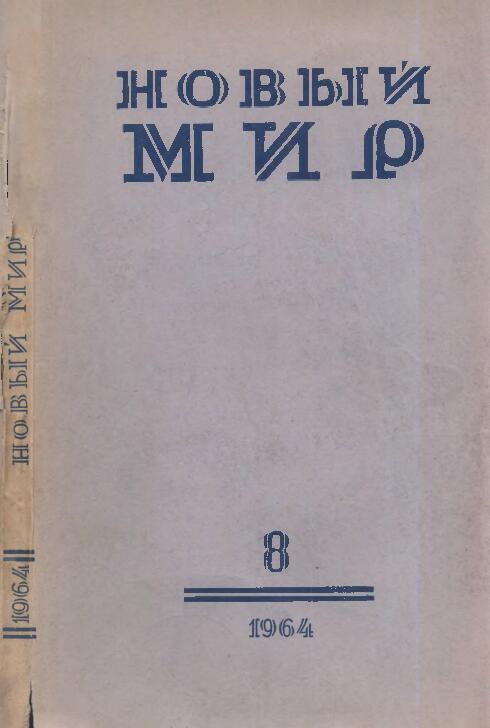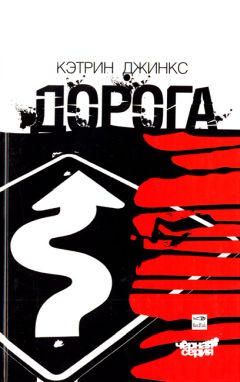на нартах.
Вася полетел в Тарко-Сале за Ниной Петровной, с ней должен был прибыть и фельдшер, чтобы постоянно остаться у нас в посёлке. Мы выделили им одну землянку под медицинский пункт, поставив там кровать для больного Рогожина. Но Нина Петровна не полетела прямо к нам, она уговорила пилота слетать с ней навстречу Рогожину и пересадить его с нарт на самолёт. Вася стал было сопротивляться, но Нина Петровна резко сказала ему: «Я врач и могу требовать. Везти тяжелобольного на нартах — преступление!» Вася завёл снова мотор, и через два часа они вернулись с Рогожиным.
Больной ещё бодрился. К вечеру ему стало хуже.
— Как дела? — спросил я Нину Петровну.
— Смотреть да смотреть за ним нужно, — ответила она и смотрела за ним днём и ночью.
Мы с Мариной помогали ей, чем могли. Когда её одолевал сон и она дремала, уронив голову на стол, мы следили за больным. Но через десять минут Нина Петровна испуганно вскакивала, кидалась к кровати, торопливо ища пульсирующую жилку на руке больного, ставила ему термометр. Ртутный столбик взлетал вверх: до предела человеческой жизни оставалось всего несколько чёрточек...
Иногда изо рта Рогожина вырывались бессвязные звуки.
— Что ты говоришь? — негромко спрашивала Нина Петровна.
Больной не отвечал. Только на четвёртый день мы впервые услышали:
— Пить...
Нина Петровна налила воды. Больной выпил немного и вздохнул глубоко, с таким облегчением, будто ради этого глубокого вздоха и шла борьба между жизнью и смертью все последние дни.
Рогожин стал быстро поправляться. Через десять дней он был уже на ногах. А ещё через неделю они с Ниной Петровной сидели в нашем доме, не спуская друг с друга глаз. Потом Нина Петровна уехала на нартах в Тарко-Сале, чтобы сдать свои дела, а Рогожин подгонял камералку, чтобы получить отпуск. Через месяц они встретились в Салехарде и вместе уехали на юг.
— Ну и термометр, хоть выбрось! — ворчал Аладьин, рассматривая ртутный столбик.
— Чем недоволен, помощник? — Я взглянул через его плечо на термометр.
— Да вот третий день как свернулась ртуть. Так и не определишь, какой мороз.
— А разве тебе пятидесяти пяти мало? — показал я на нижнюю чёрточку.
— А может, шестьдесят?..
Небо было ясное, как нержавеющая сталь, но дышать было трудно. В лёгкие словно врывались потоки льдинок.
За сотни шагов был слышен малейший шорох. Казалось, что для звуков больше нет расстояний, они могли бы смешаться в один хоровод. Но кругом было тихо. Люди сидели по домам, даже собаки не лаяли и, свернувшись, дрожали в своих конурах. Только, как пересохший пергамент, хрустел снег.
Зима торжествовала. Солнце показывалось на два-три часа и, проплыв над горизонтом, скрывалось.
— Что нового? — спросил я однажды Марину, войдя на радиостанцию.
— Телеграмма из Москвы, — подала она бланк с текстом.
«Обязываю главного инженера строительства Цвелодуба, начальника Северной экспедиции Татаринова, — стал я читать, — а также руководящих инженерно-технических работников строительства и Северной экспедиции проехать в январе по всей трассе железной дороги от Игарки до Салехарда и на месте наметить мероприятия по строительству дороги в зимних условиях. Начальникам экспедиций Енисейской, Надымской и Обской обеспечить передвижение группы оленьим транспортом и лично сопровождать по своим участкам. О поездке представить подробный отчёт. Исполнение доложить. Начальник главка Гвоздев».
— Вот это задал задачу генерал! — покачал я головой. Шутка сказать, пройти путь в полторы тысячи километров целиной, без дороги, по глубокому снегу, по всей полярной земле!
«Фантазия», — подумал я и отложил телеграмму.
Но через три дня Марина приняла ещё одну телеграмму из Игарки.
«Исполнение распоряжения товарища Гвоздева через десять дней предлагаем быть на Тазу. Сообщите, когда там будете сами тридцатью оленьими упряжками. Татаринов».
Сжавшаяся в термометре ртуть не поднималась, температура была ниже пятидесяти пяти по Цельсию. По-прежнему было тихо, над домами и землянками ни на минуту не опускались столбы дыма. Они свечой поднимались вверх и, растворившись в морозной дымке, не оставляли следа. Даже ненцы теперь редко появлялись на фактории. Они сидели в чумах и ожидали, когда потеплеет.
Но дело с поездкой принимало крутой оборот. Мне не хотелось подводить Татаринова, и в то же время я не верил, чтобы он в такой мороз рискнул ехать.
В середине дня пришёл Пяк, приехавший из тундры за продуктами. Я рассказал ему о предполагаемой поездке на Таз, но он твёрдо сказал:
— Не терпит, всем халмер будет.
— Кому халмер? — словно не поняв, попросил я разъяснить.
— Людям халмер, оленям халмер, всем халмер, — сердито подтвердил он.
Я стал уговаривать его поехать на Таз.
— Моя тоже халмер не хочет. А твоя разве хочет? — посмотрел он на меня.
— Тоже не хочет, — улыбнулся я.
— Тогда пиши: не терпит. — С этими словами он направился к выходу. У порога он ещё остановился и, хитро прищуря глаз, сказал: — Москва такой мороз нет, там всегда терпит.
Довольный своей остротой, он, засмеявшись, вышел на улицу. Через открытую дверь влетело морозное облако, разбегаясь по полу.
Я тут же написал телеграмму в Москву Гвоздеву и в Игарку Татаринову, что отправляться в такой далёкий путь на оленях при шестидесятиградусном морозе безрассудно. Ещё через два дня я получил из Москвы нахлобучку, а от Татаринова сообщение, что они уже выехали из Ермакова на автомашинах в Янов Стан. Нам ничего не оставалось делать, как готовиться в дорогу.
Пономаренко предложил построить на нартах кибитки и в них поставить маленькие железные печки. Хотя это было смешно и неизвестно было, как эти кибитки проедут по тундре, но пришлось согласиться. А мороз совсем рассвирепел.
Аладьин перечислял морозы, называя их. «Рождественские прошли, сейчас крещенские, а впереди ещё сретенские будут», — говорил он.
Татаринов с Цвелодубом и со всей свитой хоть и добрались с приключениями