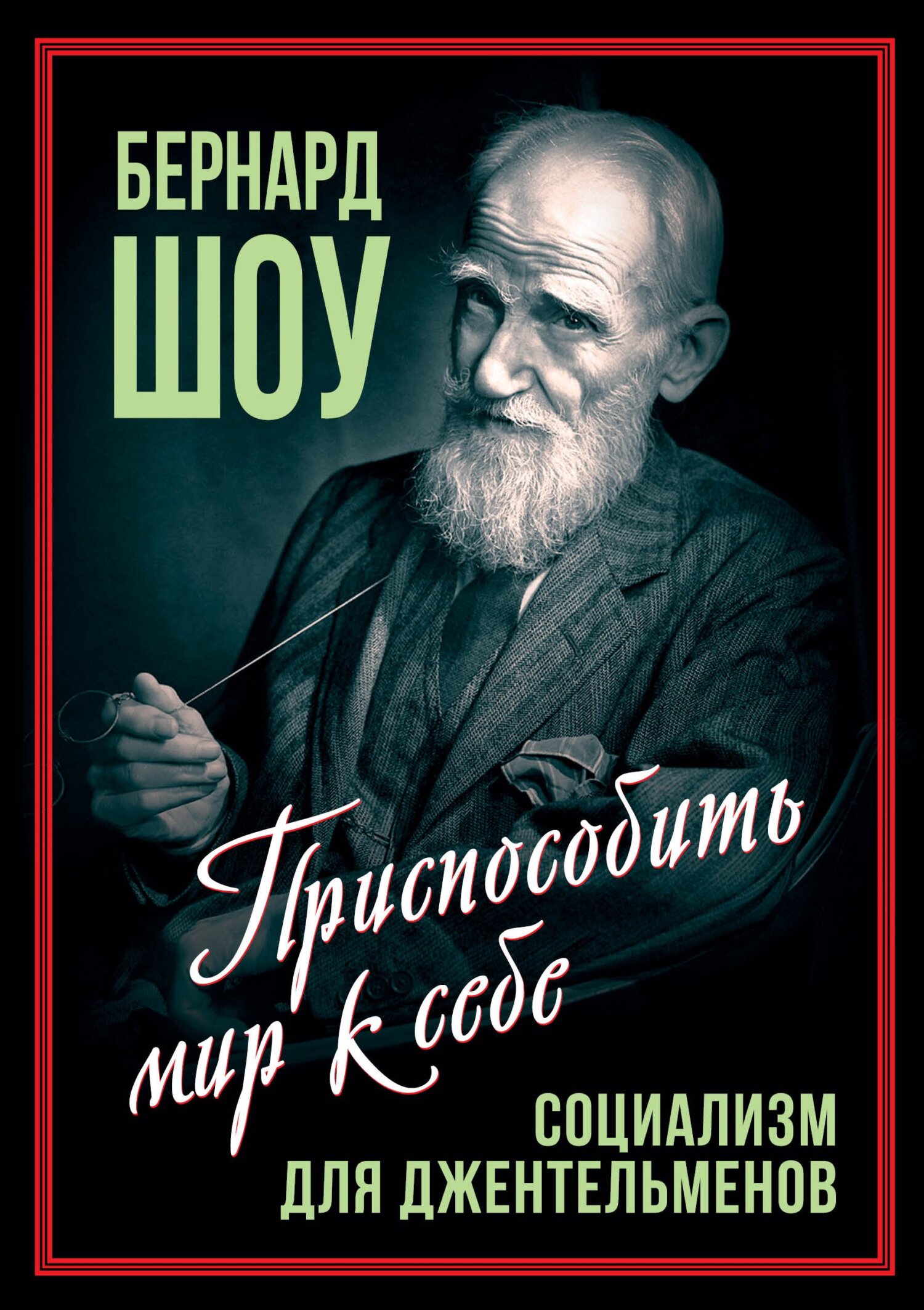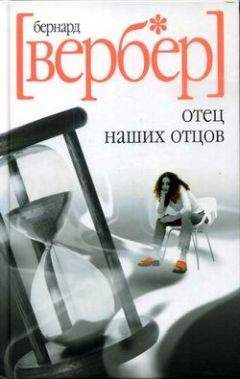по поводу неумелости человека, который мог все это выбросить и сумел только возбудить в нас сознание того, что все это действительно произошло, и что вы сами все это видели; негодуешь против человека, который изображает нам не наше представление о красоте и поэзии этого случая, а только его жизнь и смерть. Я вспоминаю, как однажды, когда я, еще будучи «художественным критиком» и будучи знаком с произведениями Мэдокс Брауна только по нескольким рисункам, угощал господина Фредерика Шильдса критической оценкой недостатков Мэдокса Брауна, указывая в особенности на один, рисунок, где локти были недостаточно красивы и более напоминали о корыте, нежели о «туалете Венеры». Господину Шильдсу удалось, не нарушая правил приличия, дать мне ясно понять, что он считает Мэдокса Брауна за великого художника, а меня за порядочного идиота. Тогда я уважал оба эти убеждения, а теперь я их разделяю. В виде смягчающей причины моей глупости, я могу только сказать, что я так привык заранее считать, что всякий английский художник стремится к сексуальному приукрашиванию и к нравственному идеализированию жизни, стараясь изобразить все совершенно непохожим на жизнь, что мне сначала даже и не пришло в голову, что художник может рисовать некрасивую женщину по какой-либо другой причине, как только потому, что он не в состоянии нарисовать красивую.
Обратимся теперь к Уаттсу и мы очутимся сразу в мире видений, где настоящая жизнь расплывается, а наши представления о благородстве и красоте, которыми мы украшаем жизнь, принимают образ и становятся видимыми. Вся эта галерея картин – одно большое откровение: жизнь, смерть, любовь и человечество теряют свой первоначальный облик; они приобретают более изящества, благородства, красоты, и даже драпировки представляют собой или скрещивающиеся озера гармонии красок или же прекрасные знамена, в роде развивающейся мантии на картине Тициана Бахус, находящейся в «Национальной Галерее». Если бы допустить, что таков мир, то надо было бы допустить, что мы живем небесной жизнью. Это значит потерять все и найти свою собственную душу. Пока мы не дойдем до того, чтобы понять насколько это плохая сделка, мы не можем сомневаться в искусстве Уаттса, конечно, предполагая заранее, что наше зрение достаточно изощрено, чтобы понимать линии и язык красок.
Кто желает подражать моему идиотскому геройству в области критики, – при случае, описанном мною в связи с господином Шильдсом, – тот не может сделать ничего лучшего, как критиковать каждого художника заранее предполагая, что искусство другого является настоящим искусством. Это приведет кратчайшим путем к тому заключению, что или большая картина Уаттса, изображающая кучера с лошадьми, является единственно крупным произведением, какое он когда-либо создал, или же, что в картинах Мэдокса Брауна нет ничего вечного, кроме различных украшений, мебели, нескольких удачных эффектов освещенного воздуха и технических фокусов и его комбинации портретного стиля Гольбейна, Антонио Мороса и Рембрандта в фантастическом портрете Шекспира. В данном случае я желаю моим читателям дать понять, что такое заключение не является доказательством ничтожности Уаттса или Мэдокса Брауна, а есть лишь reductio ab absurdum собственного критического метода.
Но я слышу вопрос: какое отношение все это имеет к драме, о которой вы желали говорить? Милый читатель, если бы все это не имело даже никакого отношения к драме, этот вопрос был бы ничтожной наградой за тот труд, что я трачу на облагораживание твоего духа. Но оставим это! Тебе никогда не бросалось в глаза то сходство между знакомыми нам приступами вражды к Ибсену и теми насмешками, презрением, ужасным отвращением и непобедимым ложным толкованием, которые вызвал Мэдокс Браун? Не думаешь ли ты, что тоже самое действие и та же самая причина заставили Ибсена избрать темой для своих произведений не юность, красоту, нравственность, благородный образ жизни и приличия такими, как они понимаются господином Смитом из Брикстона и Безвотера, а настоящую жизнь, так же мало принимая во внимание мечты и кичливость бедного Смита, как мало обращает внимания на его блестящий цилиндр погода, когда он выходит из дома без дождевого зонта? Разве ты забыл, что Ибсен был раньше также идеалистом, как Уаттс, и что ты можешь спокойно читать в Новой Галерее его «Борьбу за престол» или «Бранда», или «Царя и галилеянина» так же, как ты можешь повесить в Галерее Королевской Академии картины Мэдокса Брауна «Паризина» или «Смерть Гарольда»? Или же не слыхал ты, как идеалисты, презирающие реалистические драмы Ибсена, заявляют, что его идеалистические произведения прекрасны, и что человек, создавший образ прекрасной Сольвейг, никогда не мог бы спуститься до Гедды Габлер, если бы он сохранил свои духовные силы?
Я имел намерение гораздо шире разработать этот вопрос, но отчасти меня стесняет недостаток места, а отчасти я просто не решаюсь перейти к Лейтону и рассмотреть его произведения в связи с театром. Мэдокс Браун был человеком; Уаттс был, по крайней мере, художником и писателем; Лейтон же был только джентльменом. Я сомневаюсь, стоило-ли когда-либо быть «джентльменом», даже раньше, чем это сделалось излюбленной модой нижних слоев среднего класса, но теперь, к счастью, эта мода нетерпима более среди достойных людей, исключая только нескольких старых приверженцев Пальмерстона, которые тоже не принимают ее всерьез. И все-таки нельзя от этого излечить более молодых актеров и директоров. Сэр Генри Ирвинг, как художник и идеалист стоял на одном уровне с Уаттсом, отделенный от Ибсена и действительности жалкими ограничениями своего положения; но, по крайней мере, он не был снобом; и только по официальным причинам, согласно своему собственному определенному желанию, которое ни один обыкновенный джентльмен не отважился бы высказать, чтобы не обидеть двор и не поставить себя самого в смешное положение, он сделался «сэром». Но другие, претендующие на дворянское достоинство! Но я не желаю быть слишком высокомерным по отношению к ним! Если они приверженцы Лейтона, они могли бы быть чем-нибудь и похуже. Нет более прекрасных вещей в мире, чем собрание картин в «Академии» с их мужчинами, которые все сплошь джентльмены, и с их избранными дамами, шелковые платья которых мягко и нежно обрисовывают красивые закругленные формы, и благородным решением этих господ признавать только нежное, а не грубое только Mayfair, а не Hoxton, только Melibnry Road, а не Saffron Hill. Все это очень красиво, все эти дамы и господа, но слишком отрицательно, чтобы стать принципом драматического искусства. Подавлять вместо того, чтобы выражать, избегать вместо того, чтобы побеждать, игнорировать вместо того, чтобы излечивать: все это на сцене кончается тем, что мужчина превращается в палку, лишь бы только не испортить искусное произведение своего портного, а женщина в куклу с парикмахерской выставки из боязни выглядеть слишком комедийно,