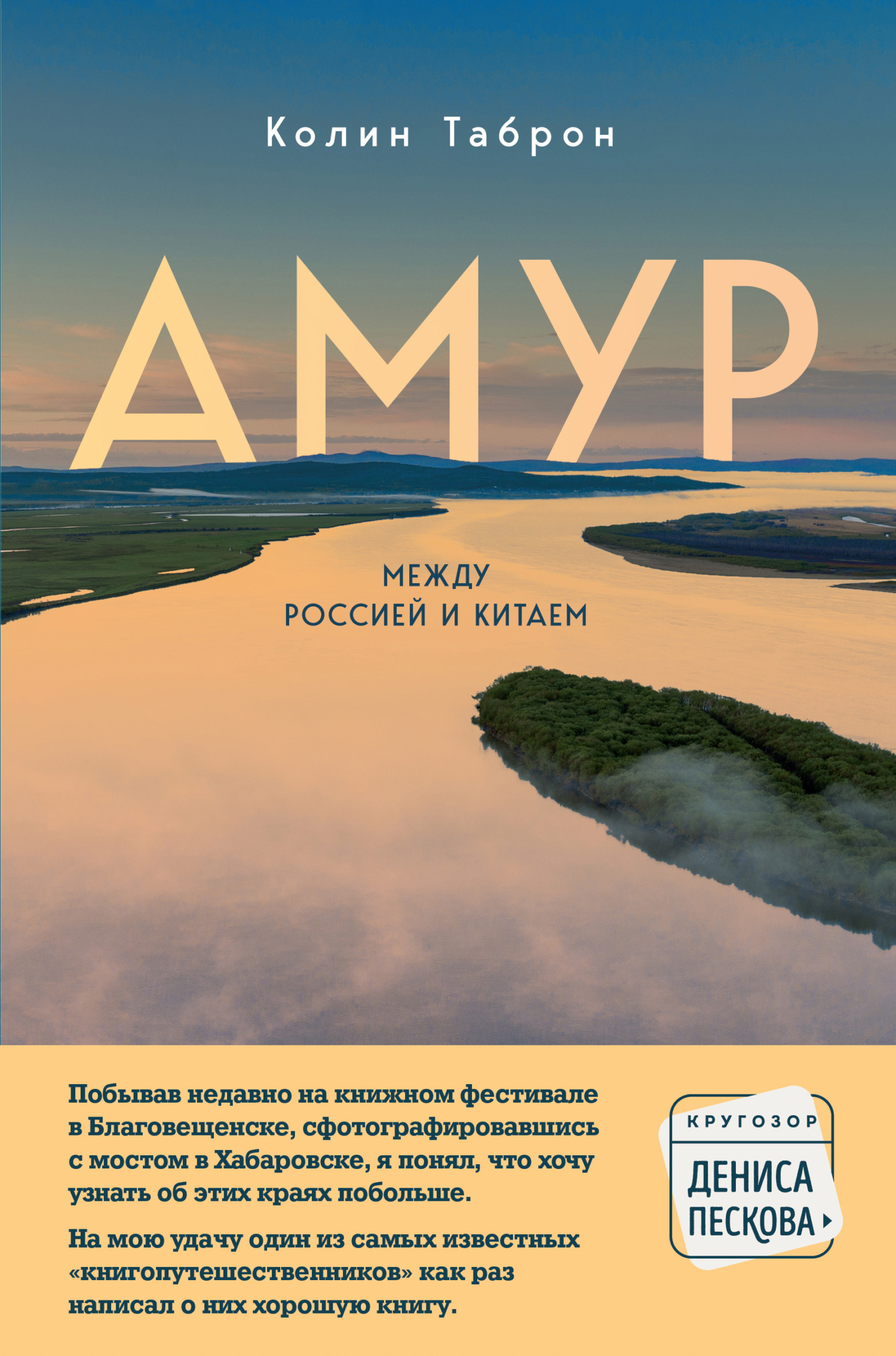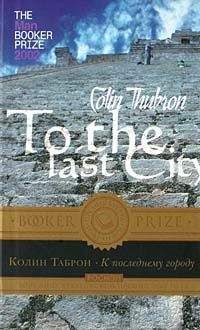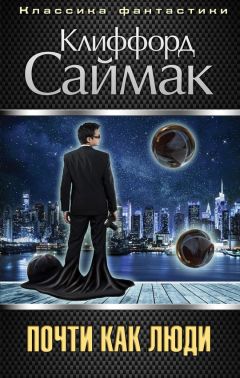Мы возродили его в 1992 году, когда я был мальчиком. Это было прекрасно. Две недели празднований! Медведя привязали вертикально, и все старались погладить его по голове. Потом наш лучший лучник застрелил его, как бывало прежде! Если бы у него не получилось, он бы навек опозорился. – На мгновение он выглядит озадаченным. – Некоторые считают, что это жестоко.
Он оплакивает увядание национальной культуры – даже здесь, в ее центре.
– Через пятьдесят лет не останется ни одного человека, знающего наш язык. Даже мы с женой говорим на нем только тогда, когда не хотим, чтобы дети нас поняли.
Но он показывает нам свой музей ульчских артефактов. Впервые вижу шесты с бахромой, которые втыкали при обращении к духам воды. Он с оптимизмом рассказывает о селянах, которые занимаются рыбной ловлей. Их коммерческие суда растягивают стометровые сети через притоки в пятидесяти километрах севернее, а каждой семье выделена небольшая квота. Поэтому они выживают. Но когда вернется медвежий праздник, ему неизвестно. В советские времена однажды представители властей приехали и увезли медведя на пароходе.
Александр и Игорь недовольны: но не тем, что творили с медведями, а ульчской рыбной ловлей.
– Вообще-то я думаю, что эти люди ненавидят нас, русских, – шепчет Александр, – потому что они жили тут раньше. Но сейчас у них есть льготы, и они закидывают свои сети на полреки…
– У меня в селе, – ворчит Игорь, – вообще появилось распоряжение, что рыбу можно ловить только ульчам. Какому-то парню дали разрешение только за то, что у него узкие глаза, при том, что мы голодали. Начались беспорядки, и полиции пришлось смягчить правила, чтобы людям можно было выжить.
Снова появляется старый ульч Валдуй, который плыл с нами до Булавы, он уговаривает меня уехать. Седеющие волосы обрамляют его лицо андрогинной умильности, но сейчас он в ярости.
– Вся эта медвежья трепотня! Это чушь! Они искажают традиции!
Он говорит, что его отец писал сказки, и в деревне ему стоит памятник, но он отвергает его. Даже берет меня туда, чтобы продемонстрировать свое отвращение. Уродливый постамент с веретенообразным тотемным столбом вызывает у Валдуя новый взрыв возмущения.
– Погляди на это! Не было таких традиций! Никогда у нас так не делали. А если делали, это убирали через год. Когда кто-то умирал, в первый год ритуалы по нему проводили каждый месяц. Потом ты сжигаешь все вещи и забываешь. Мой отец ненавидел церемонии. Люди просто его используют.
Изнеженная вежливость Валдуя обратилась в такую раздраженную горечь, что я задаюсь вопросом, а была ли там вообще какая-то доброжелательность. Уничтожение традиций сводит его с ума. Он показывает мне двор за своим домом; там на полках – множество гниющих медвежьих голов. В челюстях огромные зубы. Кто-то мне уже рассказал, что он превосходный охотник. Он говорит, что недавно в деревню забралась медведица с четырьмя медвежатами, и именно его позвали, чтобы застрелить их.
– Если бы она убила какого-нибудь ребенка, как бы я посмотрел в глаза родителям? Каждый должен оставаться на своем месте. Медведи в лесу, мы в деревне.
Но не ты, думал я. Мне все больше нравились медведи.
Валдуй знает кучу анимистических легенд, которые я не могу уловить. Везде кишат добрые и злые духи. Однажды из леса вышла черная собака и заговорила с ним на ульчском. Он вынимает гигантский клык из разлагающейся медвежьей головы и дарит мне. Однако гнев выплескивается.
– Праздник, о котором они говорят, был позором. Это вообще был не их медведь, а мой. Они его украли. И стреляли вовсе не из лука, а из автомата АК-47. Этот праздник должен был быть для моих родственников, для моего клана, для всех, кто носит мою фамилию. Я бы рекламировал его повсюду, и сюда бы приехали все, из Узбекистана, даже из Ханоя. – Он воображает наплыв людей, которых никогда не знал. – А меня даже не пригласили.
Затем на него нисходит спокойствие. В конце концов, какая-то справедливость восторжествовала. По его словам, на устроителей праздника пало проклятие. Вскоре некоторых разбил паралич, а руководитель умер в коме, не имея возможности говорить. Человека, стрелявшего в медведя, через год зарезали в Новосибирске.
Река серебряным потоком течет под горами, мы вместе с нею двигаемся на север, а Сергей думает, где закинуть сети. В нескольких километрах ниже Богородского стоит огромная палатка, которая служит столовой и спальней для полиции; у берега – их суда, сбоку – их «Лендкрузеры». Сергей нахально высаживается на берег, и мы заходим в эти брезентовые покои, словно нас приглашали. В полумраке я вижу, что в гостях у хозяев надзирательницы из женской тюрьмы в ближайшем поселке. Несколько недель я пытался избегать полиции – возможно, я единственный западный человек на сотни километров вокруг, – но сейчас меня захлестнула война приветствий, которая отправляет в забвение все различия. Вокруг нас сумятица пьянки и флирта. Какой-то смуглый лихорадочный полицейский отлипает от светловолосой женщины, чтобы обнять меня. Он сильно пьян. В неистовом братании наши открытые ладони снова и снова хлопают в воздухе, а он по непонятной мне причине кричит: «Краб! Краб!» Женщины глазеют, мужчины смеются, и все мы пьем до тех пор, пока намерения явившегося сюда Сергея не осуществляются, и через несколько минут мы снова на открытой воде, а прощальный крик «Краб!» растворяется в расстоянии и реве нашего мотора.
Опускаем сети рядом с берегом при полном разливе реки. Сильный ветер покрыл ее поверхность серо-стальными волнами. Когда мы возвращаемся их вытаскивать, то обнаруживаем, что они зацепились на дне – Сергей полагает, что за затонувшее дерево, – и за полчаса при всех маневрах мы не можем их достать. Помогает появившийся полицейский катер – он тянет с одной стороны, мы с другой. Появляется трепет ожидания. Игорь выкрикивает что-то, когда сеть на носу стягивается. Из воды вырывается почти двухметровая торпеда с зубчатым позвоночником, колотящая воду хвостом. Это амурский осетр, охота на которого запрещена уже больше тридцати лет. Однако Сергей и все остальные ликуют. Полиция позволяет ему забрать рыбу домой («накормить семью»), потом смеется и уплывает.
Александр говорит успокаивающим тоном:
– Я слышал, осетр возвращается. Здесь его все едят.
С началом лета, когда нерестящиеся осетры снова заходят в Амур, они становятся легкой добычей. Самцы (как наш улов) двигаются над дном, в то время как самки лежат на спине у поверхности, вынашивая свое потомство под проникающими лучами солнца. В это время браконьеры – организованные профессионалы или бедные селяне – взимают колоссальную плату за проход по реке. Китайцы разводят амурского осетра на фермах, но