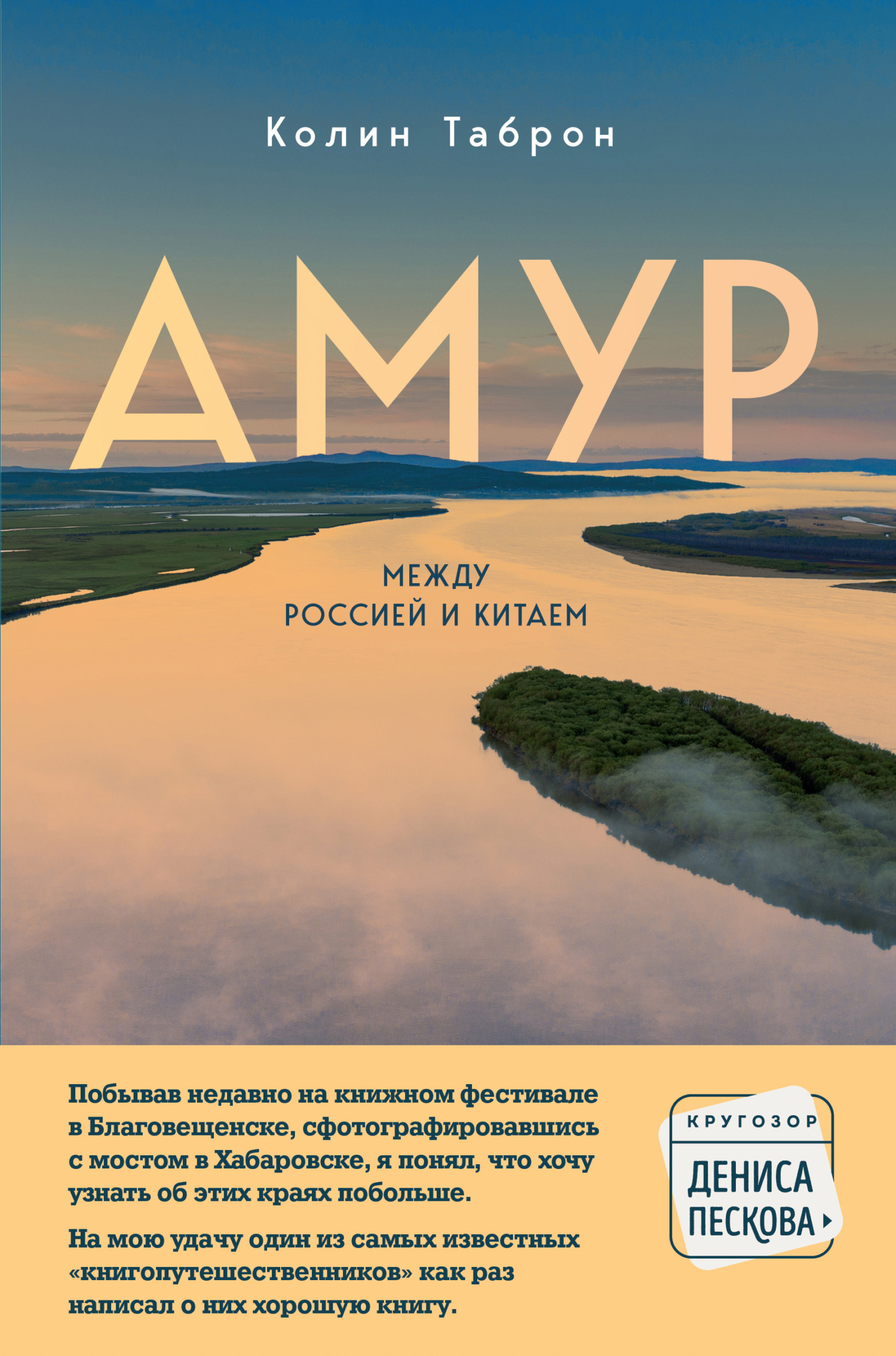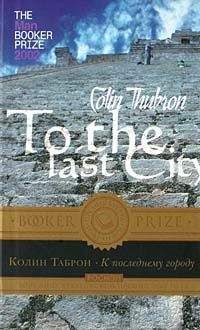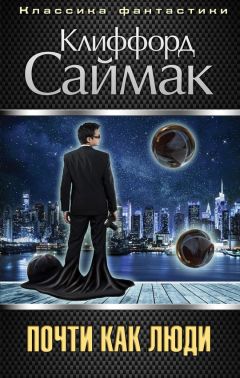в помещение какой-то вирус. Он ненавидит всех: местные власти, коренное население, полицию, свою жену, естественно, китайцев, евреев, всех иностранцев, само собой. Но он любит Сталина. Вот были же времена, когда Россия заслуживала уважения, все были равны, и каждый, кто был богаче его, попадал в лагерь. Его выдающийся нос и узкий лоб с редкими прилизанными волосами придают ему вид возбужденной ласки. Тосты – за встречу, за мое возвращение – пропадают в нарастающей злобе, когда Сергей и ласка спорят о том, кто важнее в местном энергетическом управлении (тем временем обе лампочки то гаснут, то загораются снова). Когда всплывает тема Сталина, перекрестный огонь политических воззрений перерастает в яростные споры. Трофим присоединяется к ласке в желании вернуть Сталина. Любители наживы Сергей и Игорь отводят ему место в прошлом. Шум нарастает. Появляются нехорошие мысли. Александр вспоминает документальный фильм, в котором трое выживших вспоминают ГУЛАГ. Двое по-прежнему любят Сталина, но третий, еврей, сказал: «В моей семье слово «Сталин» произносить запрещено».
Это на миг вызывает непонимание. Я понимаю, что нелюбовь западного человека к Сталину можно будет зачесть в его пользу, и говорю только:
– Я ненавижу его за то, что он сделал с Россией.
Однако никто не слушает. В подпитываемом водкой шуме я теряю нити спора. Мой русский язык сдается. Интересно, опьянел ли я. В этом брожении лица моих спутников становятся неразборчивыми. В такие горячие мгновения со внезапным потрясением могут проявиться глубокие культурные различия, скрытые при повседневной жизни. Теперь я уже не могу сказать, кто ненавидит, кто любит, кто преклоняется перед Путиным, оправдывает евреев или питает отвращение к Сталину. Александр, видимо, ощутив мое замешательство, пытается утихомирить шум ругательств и остудить разговор, крича: «Анекдот! Анекдот!» Но слишком поздно. Электрик снова яростно лается с Сергеем. Игорь, который пьет только вино и не курит, смотрит на ласку и шепчет мне:
– Я могу распознать профессионального браконьера, когда увижу. – И позже я понимаю почему.
Раздоры исчезают только в сонной духоте бани, где я сижу между громадиной Александра и худыми бедрами электрика. В этой потной разрядке я пытаюсь поцарапать шовинизм ласки, упоминая про нарушенный Нерчинский договор; однако он отвечает, что в школе этому никогда не учили, он узнал об этом где-то в музее, это все знали, и это вообще не имеет значения. Вскоре Сергей с Александром поднимаются обратно в дом, чтобы пить до раннего утра, и на веранде в размышлениях остается только Игорь. Когда он снимает бейсболку, седоватая линия волос делает его старше, и я внезапно сожалею, что этот основательный человек с хмурыми глазами и молчаливой благожелательностью завтра расстается с нами. Словно извиняясь за вечернее буйство, он говорит:
– Знаете, мы люди простые. Наша жизнь никогда другой не была. Так уж нас воспитали.
Я спрашиваю, будет ли он дальше подниматься по Амгуни до своего дома. Нет, отвечает он, не будет, у него дела в Хабаровске. Внезапно Игорь спрашивает:
– Сколько стоит грамм икры в Англии?
Но я понятия не имею.
На миг он задумывается, стоит ли мне верить. Кто же не знает такой вещи? Потом его разочарование проходит.
– Много нашей икры идет через Китай, а они продают ее за границу. Но китайцы – лицемеры. Если у тебя есть деньги, они целуют тебя в задницу. А если нет, напрочь игнорируют.
– Вы продаете икру?
Вопрос опасный. Незарегистрированная торговля запрещена.
Ледяная улыбка гаснет.
– Да. Но это секрет. Беру в своей деревне – пятьсот килограммов. Иногда везу на машине, иногда на катере. Продаю между Хабаровском и Николаевском. Даже людям на Камчатку уходит. Вот где деньги. Не от рыбы, не от охоты. – Он подносит руку к губам. – Не говорите Александру.
Когда он уходит, я жду в темноте над рекой. Она неподвижна в своей лагуне, возможно, отуманена водкой, мимолетно напоминает Онон в Монголии – еще зеленый, чистый и молодой. Захожу в предбанник, где на диване лежат одеяла и подушка. Ласка уже спит на полу рядом, свернувшись на ковре из медвежьей шкуры.
* * *
В проникновенном отрывке из романа Андрея Макина «Время реки Амур» главный герой размышляет, что можно провести жизнь на далеком Амуре и не узнать, уродлив ты или красив, и не понять чувственную топографию тела другого человека. «Любовь тоже нелегко приживалась в этом суровом месте…»
На эту грустную мысль наводит вид Галины, разглагольствующей на следующее утро о своих цыплятах. Это смуглая женщина дикого вида с гривой косматых волос. Она говорит, что терпеть не может эти места. Она моложе своего мужа. Возможно, она некогда любила его – но не его деревенский рай. По ее словам, она скоро уедет назад на родину в Пензу, западнее Волги.
– Я вою каждый день. Забываю человеческий язык. У нас нет ни телевизора, ни телефона, ни радио. – Она смотрит на меня со странной ослепительной улыбкой. Серьги сверкают неповиновением. – Если бы ваша жена оказалась тут, она бы уехала через два дня. Я здесь одиннадцать лет.
Когда я возвращаюсь к бане, на ступеньках сидит Александр, держащийся за виски. Они с Сергеем пили до трех часов ночи. Сейчас время Паршивого Александра, и он не разговаривает. Пока он заканчивает завтракать, потом снимает похмелье по-русски, стопкой водки, проходит час, и мы ждем, пока трезвый как стеклышко Сергей готовит лодку.
Медленно возвращается Нормальный Александр. Мы сидим на скамейке у реки, где он изображает забрасывание удочки. Говорит, что дед научил его ловить рыбу еще в детстве, когда они вместе плавали по притокам, которые он помнит до сих пор. Его уважение к деду напоминает мне такое же отношение Батмонха; кажется, что те времена были очень давно.
– Мы с дедом и бабушкой были очень близки. Но он умер от сердечного приступа.
Успокоив себя сигаретным дымом, Александр переходит от похмелья к задумчивости.
– Отец тогда работал, и я его не видел. Во всяком случае, он никогда не проявлял ко мне особого интереса. Он женился в двадцать, и мне кажется, что это было рано. Я никогда не ощущал близости к нему. Только когда я закончил школу, он сказал: «Вот теперь я чувствую, что у меня есть сын». – В его голосе заметно грубое понимание, лишенное жалости к себе. – Мать в те дни занималась только мной, так что частично тут и ее вина. Сейчас она пьет. Мы с отцом ходим иногда на рыбалку, но говорим только о рыбе.
Я смотрю на него, пытаясь найти изменившееся выражение лица, но ничего не вижу.