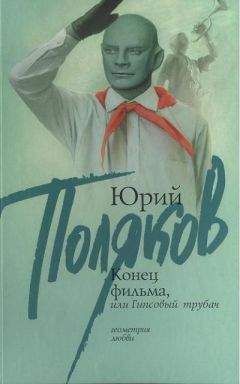За этим последовали три дня молчания. Я не приходил к Михаилу Иннокентьевичу и не звонил - ведь звонить ему можно было лишь в чрезвычайных обстоятельствах, и я не нашел в себе силы это сделать. За эти три дня я расслабился, совсем перестал заниматься, не видя выхода из ситуации и зная, что со стороны Табакова никакого компромисса быть не может.
И вдруг в день концерта произошло неслыханное, Табаков сам позвонил мне! Это была небывалая уступка профессора своему ученику, и я до сих пор испытываю за нее чувство стыда, Михаил Иннокентьевич выразился кратко: - Сегодня в концерте можешь играть, что хочешь.
Но было уже поздно. Я три дня не брал инструмент в руки и считал невозможным, будучи не в форме, выйти на сцену.
Таким образом, моя радость по случаю успешного выступления на конкурсе была омрачена.
Соревнование было очень трудным. Премии присуждали не так, как теперь - по каждому инструменту три премии и два диплома, а по две премии, общих для всех инструментов. В результате трубачам не дали ни первых, ни вторых премий, но присудили три третьих: Орвиду, Воловнику (из Ленинграда) и мне. Диплом получил трубач Самохвалов из Киева.
В то время в нашей стране было всего два трубача-лауреата: Н.Полонский и С. Еремин, Тогда это звание котировалось очень высоко; оно налагало большую ответственность, но и предоставляло возможности проявить себя на концертной эстраде. Это был отличительный титул признания высшего мастерства. В начальный период моей концертной деятельности это звание мне очень помогло.
Прошло всего полгода после окончания конкурса, и меня призвали в армию. Началась Великая Отечественная война.
Моя армейская служба проходила в Образцовом оркестре штаба Московского военного округа. Это была, по сути, третья моя армейская служба (первая - воспитанником, вторая - вольнонаемным музыкантом в Балалаечном оркестре ЦДКА с ноября 1936 года по ноябрь 1939 года).
Оркестр штаба Московского военного округа был укомплектован в основном профессиональными музыкантами. Из его состава был создан джаз-оркестр, которым руководил выдающийся музыкант Виктор Николаевич Кнушевицкий, создатель первого в нашей стране Государственного эстрадного оркестра.
Пожалуй, никогда в военных оркестрах не играли музыканты столь высокого класса, как во время войны. Служили все исполнители профессиональных оркестров призывного возраста - от молодежи до седовласых. Надо сказать, что служба военного музыканта изнурительна. А на духовом инструменте особенно трудна в зимнее время, когда приходится играть на улице на застывшем инструменте с обледенелым мундштуком. Но во время войны мы с этим не считались, наша ежедневная работа длилась часами. Понятно, что, кроме исполнения музыки, мы выполняли караульную, патрульную службу в прифронтовом городе, каким стала Москва к середине октября 1941 года и позже. Немцы каждую ночь бомбили город. Мы, вооруженные винтовками, дежурили на крышах домов, в местах скопления людей - бомбоубежищах, станциях метро. Некоторые носили с собой и свои музыкальные инструменты.
Наша профессиональная будничная работа начиналась рано утром. До декабря месяца она была довольно грустной. Исключением стал неожиданный парад 7 ноября на Красной площади по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции. Парад этот никак не готовился. Нас подняли в 5 утра, к 7 часам было приказано явиться на Красную площадь. Кроме нашего оркестра, насчитывающего 50 человек, там были оркестры полков НКВД - всего около 150 музыкантов. Этим маленьким сводным оркестром дирижировал автор популярного марша "Прощание славянки" В .Агапкин.
В параде участвовали части, находящиеся на переформировании. В их марше по Красной площади не было ничего парадного. Усталые, они не могли знать, что им, направляющимся на боевые позиции осажденной немцами столицы, предстоит сначала пройти маршем по Красной площади. Парад начался в 8 часов утра, в то время как обычно они начинались в 10 часов.
Предрассветный утренний туман, низкая облачность, метель и мороз делали погоду нелетной, что счастливо сопутствовало проведению парада с наименьшей вероятностью налета немецкой авиации.
В речи И.Сталина с трибуны Мавзолея прозвучали слова, которые запомнились, как вещие предсказания: "Еще пол годика, годик и фашистская Германия лопнет под тяжестью своих преступлений". Смысл этой фразы тогда не казался реальностью. Он больше был как бы направлен на поднятие духа людей. Но месяцем позже наши войска нанесли врагу первый после начала войны сокрушительный удар и отогнали немцев от Москвы. Вдохновленным победой людям потребовалось больше музыки, Звуки нашего оркестра, единственного оставшегося в Москве из образцовых военных коллективов, раздавались на московских вокзалах, речных причалах, откуда сформированные части направлялись на фронт и куда прибывали беженцы и эвакуированные из оккупированных районов нашей страны.
Многие люди, порой и сами музыканты, не вполне оценивали роль и значение музыки на войне - как во время кровопролитных сражений на фронтах, так и в тылу. Но надо было видеть лица людей - бросивших все, едущих неизвестно куда стариков, женщин, детей, оставивших свои дома, упавших духом, для которых, казалось, жизнь кончилась - когда они слышали звуки духового оркестра. Услышав музыку, люди плакали, обнимались, кричали: "Музыка! Значит, жизнь, значит, не все конченой впереди победа!" Это было выражением отчаяния, смешанного с чувством надежды, возвращения к жизни. Глядя на это, невозможно было играть, слезы душили, сбивалось дыхание... Эти минуты незабываемы.
Однако, как это ни покажется странным, ни трудности и тяготы армейской службы, ни тревога и напряжение военных будней не отравляли нашу жизнь так, как это делал наш начальник и дирижер - Лев Георгиевич Юрьев (брат выдающегося трубача Леонида Георгиевича Юрьева).
Мало того, что он был бездарным дирижером и музыкантом, что особенно бросалось в глаза на фоне высокой исполнительской квалификации большинства оркестрантов, это был еще и редкостно неприятный человек. Для него не существовало никаких авторитетов, он не терпел компетентных суждений, не прислушивался к чьему-либо мнению. Люди для него были как будто механизмами, автоматами, призванными молча выполнять любые приказы. А приказы эти бывали порой нелепы ; до идиотизма.
Например, он мог скомандовать на репетиции: "Встать! "Ромео и Джульетту"... на месте шагом... марш!" - и мы играли эпизод аллегро из увертюры-фантазии Чайковского в темпе марша.
Таков был "творческий" метод нашего дирижера и начальника в работе с оркестром.
Злоупотребление своим положением развлекало его. Например, заметив отсутствие на моем пульте нот оркестровой партии, он объявлял: "Трое суток гауптвахты, если ноты не будут сейчас же на месте!" - И мои товарищи шли искать ноты, хотя это было заботой библиотекаря. Юрьев с нами разговаривал злобно, с перекошенным и слюнявым, как у бешеной собаки, ртом.
Некоторые его выходки граничили с садизмом. После ночных бомбардировок Москвы в оркестр звонили родственники, справлялись о своих родных и близких. Однажды после такой тяжелой ночи, а мы часто проводили их на крышах домов, одна женщина позвонила, чтобы справиться о здоровье сына. Юрьев, раздраженный звонками, ответил: "Он убит".
Это была его "шутка", И каждый день он позволял себе в разной форме оскорблять и унижать людей. Генерал Чернецкий называл службу в оркестре Юрьева "штрафным батальоном".
Мало того: наш командир был еще и трусом. Во время переезда оркестра на концерты в Горький в октябре 1941 года на наш эшелон напали немецкие самолеты. Была объявлена тревога.
Мы выскочили из вагонов, вооруженные старыми винтовками (образца, кажется, 1897 года), и из этих винтовок стали стрелять по пикирующим самолетам, но наш огонь им был - как слону дробина. А Юрьев в это время прятался в вагоне и кричал: "Прикрывайте меня!" Разумеется, терпеть такое положение было трудно, и в оркестре нарастало недовольство самодурством начальника. Но в условиях военного времени неподчинение командиру квалифицировалось как бунт, нарушение устава и присяги. Тогда группа музыкантов подала рапорт с просьбой об отправке их в действующую армию.
Разобраться в ситуации пришел генерал из политуправления штаба Московского военного округа. На собрании коллектива в лицо Юрьеву говорили: "Если мы окажемся на фронте, то первую пулю пустим в Юрьева!" Такое могут сказать лишь люди, доведенные до отчаяния. Казалось, что после этого собрания мы больше не увидим Юрьева в оркестре. Однако решение было иным. "Своего" в обиду не дали, а большую часть оркестра - лучших, смелых людей - отправили на фронт. Среди них были упомянутый уже Виктор, Кнушевицкий, гобоист Константин Швечков (после войны - ответственный работник Внешторга), Кирилл Никончук, тоже гобоист (после войны - профессор Ленинградской консерватории), тубист Владимир Календа (после войны - артист оркестра Московской областной филармонии) и многие другие. Некоторые - увы! - не вернулись обратно.