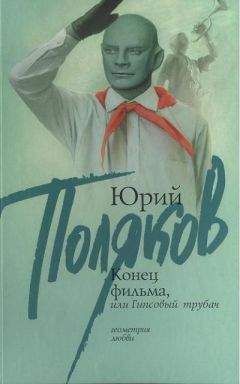Разобраться в ситуации пришел генерал из политуправления штаба Московского военного округа. На собрании коллектива в лицо Юрьеву говорили: "Если мы окажемся на фронте, то первую пулю пустим в Юрьева!" Такое могут сказать лишь люди, доведенные до отчаяния. Казалось, что после этого собрания мы больше не увидим Юрьева в оркестре. Однако решение было иным. "Своего" в обиду не дали, а большую часть оркестра - лучших, смелых людей - отправили на фронт. Среди них были упомянутый уже Виктор, Кнушевицкий, гобоист Константин Швечков (после войны - ответственный работник Внешторга), Кирилл Никончук, тоже гобоист (после войны - профессор Ленинградской консерватории), тубист Владимир Календа (после войны - артист оркестра Московской областной филармонии) и многие другие. Некоторые - увы! - не вернулись обратно.
Таким образом, "честь мундира" была восстановлена и "порядок" в оркестре наведен. Но Юрьева все же вскоре из коллектива убрали. На его место был назначен Г.Запорожец -нормальный и требовательный человек. Инспектором оркестра Московского военного округа, то есть нашим художественным руководителем, вместо Панфилова стал Кругов, впоследствии трагически погибший при нелепых обстоятельствах. Он открыл дверь еще двигающейся машины, проезжая снежный сугроб, дверь захлопнулась... и убила его.
Между тем коллектив наш был дружным: молодые уважительно относились к старшим. Отцы и дети служили и трудились вместе. Среди старших по возрасту был у нас кларнетист-виртуоз Алексей Тихонович Игнатенко, он носил пенсне, до войны работал в оркестре В, Кнушевицкого и фантастично исполнял на кларнете молдавские танцы. Мы ласково звали его Люля, он всегда был в хорошем настроении, острил и веселил всех.
Однажды я обратился к ребятам с просьбой помочь композитору В.Пескину вернуть рояль, который вывез из его квартиры бывший ученик, певец Саша Конев, которому Пескин, уезжая в эвакуацию, доверил ключи. Конев инструмент не отдавал и скрывал его у себя дома. На просьбу живо откликнулись мои молодые коллеги. Не отстал от нас и Люля в пенсне.
Как-то ранним утром человек десять на грузовике (не помню, где мы достали машину) собрались ехать за роялем. 11-м стал Владимир Антушевский из Днепропетровской филармонии, валторнист от Бога, возвращавшийся под утро в казарму. 12-м был Алик Швиндлерман - наш соло- флейтист.
В 8 утра в квартиру Конева энергично вошел отряд вооруженных людей. Хозяин еще не успел одеться. "Мы за роялем Пескина приехали". Он опешил от неожиданности: "Вот инструмент". Мы, не говоря ни слова, без приспособлений, подняли рояль на руки, стащили его вниз и затем водрузили Пески ну на 2-й этаж известного в Москве дома бывшего Российского страхового общества, что на Сретенском бульваре.
Практика грузчиков, правда, у нас уже была. Мы ее приобрели, когда 17 октября 1941 года немцы прорвались к Москве, Был срочно эвакуирован штаб Московского военного округа, и мы грузили сейфы ничуть не легче концертного рояля Пескина.
Дружба и связи музыкантов военных времен оркестра МВО сохранились на долгие годы.
Интересно, что после войны мы неоднократно встречались с Юрьевым. Он частенько приходил в Центральный дом работников искусств на собрания творческого объединения музыкантов-духовиков, которое я возглавлял, и вел себя вполне достойно, как равный среди равных, приветливый и улыбчивый. И куда девались его злобно перекошенные губы? Общаясь с ним, я все думал о том, как странно порой обстоятельства деформируют личность. Для таких людей, как Юрьев, характерно умение приспосабливаться к среде обитания. И такие люди творили нашу историю - будто бы радея о добре, несли другим зло...
К Новому, 1942, году и после него работать стало немного веселее. Немцев погнали от Москвы. Мы играли на аэродромах при награждениях героев-летчиков, в лесах и освобожденных городах, где стояли на переформировании части, при вручении им гвардейских знамен. В освобожденный и совершенно разрушенный город Калинин (теперь Тверь) поехали играть для поднятия духа местных жителей, возвращавшихся из лесов. И нипочем для нас, музыкантов, были трескучие морозы лютой зимы 1941-1942 года, а ехал и-то в кузовах открытых грузовиков.
Конечно, трудно говорить о профессиональной форме музыканта, о каких-то серьезных занятиях во время военной службы. Хорошо, если перед игрой едва успевали разогреть мундштук и инструмент. Такой режим растраты исполнительских ресурсов, без их восстановления и накопления, вел к неизбежному снижению уровня мастерства, огрублению исполнительского аппарата, потере тонких ощущений губных мышц. Как результат этого, утрачивалась легкость звучания и многое другое.
Для восстановления игровых навыков требовались регулярные занятия и, естественно, отдохнувший организм. Ни того, ни другого у нас не было.
В поисках спасительного метода восстановления аппарата люди бросались на нечто сенсационное. В армейских оркестрах легко рождались легенды о том, что "кто-то когда-то умел делать такое, благодаря системе..." и начиналось что-то вроде эпидемии. Все "заболевали" новой системой занятий. Попадались на такое и мы. Я слышал о системе бес прижимной игры и смеялся, когда видел, как трубачи старались извлекать верхние звуки ("до" третьей октавы), не прикасаясь руками к инструменту, лежащему на скользкой поверхности крышки рояля. Нет бесприжимной игры! Есть легкая игра, но для извлечения любого звука, верхнего или нижнего, должна существовать определенная степень напряжения мышц всего аппарата, особенно губ, языка, дыхания, И до сих пор отдельные студенты пробуют эту систему, теряют годы, а главное - не всегда удается после этого вернуть "пострадавшего" на нормальный уровень.
На этом я не попался тогда, но попался на другом - на системе занятий Щербинина. Владимир Арнольдович был очень влиятельным музыкантом, воспитавшим много квалифицированных тромбонистов. У него была система занятий и разыгрывания на тромбоне под названием "Стандарты", включающая "колеса", или "кольца" (не помню точное название). Эта система была рассчитана на многочасовые ежедневные тренировки. Они, безусловно, закаляли аппарат, развивали регистры, но выдерживали эту систему далеко не все тромбонисты, многие от нее страдали, "Стандарты" безуспешно старались передать трубачам. Вот и я поверил в спасительную силу этой системы.
Смысл упражнения "колесо", или "кольцо", состоял в следующем: надо было с самого нижнего звука (фа-диез малой октавы) по хроматическому звукоряду медленно, легато и пиано подняться на квинту вверх и так же, не отводя мундштук от губ, спуститься обратно вниз и начать новый круг, прибавляя сверху еще полтона, и вновь спуститься вниз. С каждым новым кругом добавляя по полтона, надо было стремиться расширить "колесо" до 2,5-3 октав, а затем аналогичным путем вернуться обратно.
На эти занятия уходили часы труда. Теперь я понимаю, что большей бессмыслицы и варварства невозможно было вообразить. Но тогда я начал "наворачивать круги". Через неделю у меня напрочь перестали извлекаться вообще какие бы то ни было звуки - ни верхние, ни нижние, ни средние, ни громкие, ни тихие.
В отчаянии я обратился к Владимиру Арнольдовичу, с которым много лет нас связывали дружеские отношения. Он сказал: "Приходи, поможем. А эти (он имел в виду свои "колеса") брось играть".
Около месяца я не прикасался к инструменту. Еще больше времени ушло на постепенное приближение своим обычным методом к прежней игровой форме.
И в наше время есть подобные работы, рекламирующие развитие сверхвозможностей игры на трубе. Они отражают, в основном, крайний субъективизм их авторов и рассчитаны на ищущих легкого пути. А легких путей в нашей практике не бывает. Строить целиком свои занятия на этих системах опасно и чревато непредвиденными отрицательными результатами. Лишь отдельные страницы и мысли из этих работ могут быть испробованы индивидуально.
Моя третья служба в армии продолжалась до конца войны и дальше, до парада Победы 24 июля 1945 года. За армейские годы я дослужился до звания старшего сержанта. Еще будучи на службе, я выдержал конкурс в оркестр Большого театра и в декабре 1945 года начал работу в прославленном коллективе, которая продолжалась без малого сорок лет - как один день...
Печальным итогом войны для нашей семьи были две гибели моих младших братьев - Левы и Абраши. Лев, 1923 года рождения, пои]ел в армию добровольцем. Ему еще не было 18 лет. Через три месяца он в звании лейтенанта был отправлен на фронт в Белоруссию, и где-то под Смоленском их часть попала в окружение. Оттуда брат выбрался, к счастью, легко раненным. В 1942 году их армию направили под Орел, где вскоре развернулась ожесточенная битва на Орловско-Курской дуге, после которой немцы устремились к Сталинграду. Когда эшелон, в котором ехал Лева, остановился под Москвой в районе станции Бутово, он сумел мне дать знать, что мы можем повидаться. Я немедленно помчался на встречу с братом. Он был в полевой форме, лицо его, огрубевшее от мороза и ветра, было совсем другим - не светлым, мальчишеским, улыбчивым, каким я его видел всего полгода тому назад. Раненный в бедро, он хромал, взгляд его был суровым и озабоченным. Мы стояли на лесной опушке скрытые деревьями от железной дороги, разговаривали и поглядывали на часы. Я не мог допустить, чтобы он уехал от меня в неизвестность, готов был спрятать его, моего ребенка, в своем сердце. Но не мог же он стать дезертиром, хотя по закону должен был быть призван в армию годом позже. Мы попрощались. Я предчувствовал, что больше его не увижу, но не показал ему моих слез. Я и теперь плачу, описывая нашу последнюю встречу. В бою Леву в самое сердце поразила пуля снайпера. Это случилось под Орлом. Его фронтовые товарищи прислали нам комсомольский билет и фотографии, простреленные адской пулей. Похоронили его в безымянной братской могиле. Ему шел лишь 19-й год...