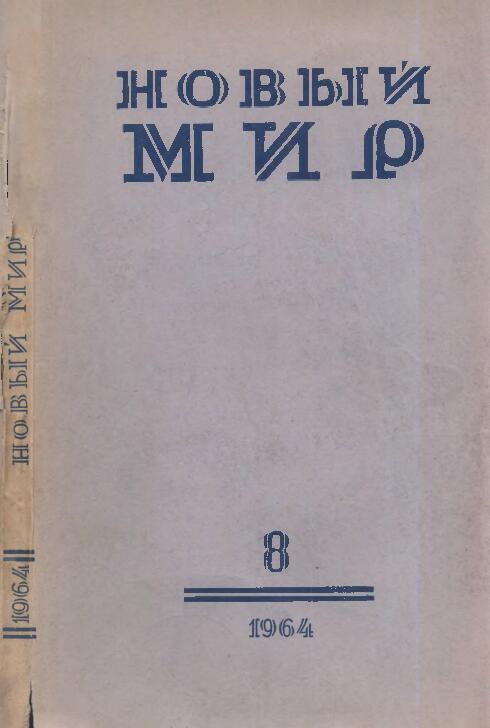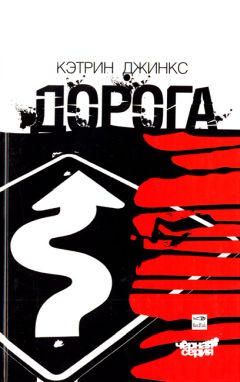уже не маленькая, ей двадцать лет и пора быть самостоятельным человеком.
— Когда тронулся поезд, — рассказывала Марина, — я видела, как заплакала мама, а отец её успокаивал. Я тоже заплакала. Но подумать только! Мой дед ещё ездил в Салехард-Обдорск на собаках, а теперь мы летим на самолёте! Вот прилетим, сразу напишу своим, — сказала она.
Но как ни храбрилась Марина, она с облегчением вздохнула после того, как самолёт уже приземлился, и честно сказала, что, когда машина снижалась, ноги у неё совсем отнимались от страха. Пока Миша растапливал в комнате печку, она ходила из угла в угол, стараясь согреться, потом пошла натягивать антенну. Мне сразу понравилась эта девушка с весёлыми, насмешливыми глазами. Но, конечно, я тогда не думал, что Марина будет моей женой и матерью моих детей. Ей было двадцать, а мне тридцать три.
Ночью пурга стихла. Утро было морозное, воздух чистый и прозрачный. Насколько хватал глаз, были видны равнина тундры и Тазовская губа, покрытые белым снегом. Они казались округлыми и терялись за снежным горизонтом. Волохович вёл самолёт по прямому курсу через тундру, на совхоз Самбург. Рогожин и я сидели согнувшись в тесной кабине. Через сорок минут показались очертания берегов Пура, а вскоре и посёлок. Самолёт, снизившись, сделал несколько кругов. Из домиков выбегали люди, они суетились, махали руками. Лётчик, приглушив мотор, обернулся к нам и крикнул:
— Где будем садиться?
— Пробуй на реке, — ответил я.
Сделав над рекой ещё два круга, Волохович выбрал ровную площадку и посадил самолёт.
Из посёлка на берег бежали люди и, обгоняя их, неслись с лаем собаки. Погружаясь по пояс в снег, мы с трудом выбрались на берег. Ненцы разогнали собак и радостно встретили нас. Все они были одеты в меховые малицы и унты, расшитые цветными узорами. На некоторых поверх малиц были надеты ещё и «гуси», тоже сшитые из оленьих шкур, только мехом наружу.
Они обступили нас, и каждый старался первым приветствовать гостей. Говорили они по-русски плохо, сильно растягивая слова. Шумный говор стих, когда подошёл пожилой невысокий человек, одетый в новую малицу, и отрекомендовался на чистом русском языке:
— Николай Иванович Вануйта. Директор оленеводческого совхоза.
Я назвал себя и познакомил Вануйту с остальными товарищами.
В это время детвора оттёрла Волоховича в сторону. Громко смеясь, ребятишки выпрашивали у Миши папирос и чтобы он дал им шлем и очки, пока старый ненец с широким морщинистым лицом и слезящимися глазами не крикнул на ребят по-ненецки — тогда те отступили от лётчика.
— Долго мы пробудем здесь? — спросил Миша, выбравшись из окружения.
— Да часа два.
— Тогда я пойду мотор чехлом закрою, а то застынет, не заведём.
Николай Иванович крикнул:
— Как управитесь — прошу ко мне на обед.
Толпа ненцев пошла за Волоховичем и Рогожиным к самолёту. Они окружили его плотным кольцом. Одни с опаской трогали крылья, стропы и хвостовое оперение. Другие стояли на почтительном расстоянии, громко говорили, смеялись. Несмотря на сильный мороз, никто не думал уходить.
— К вам раньше прилетали самолёты? — спросил я идущего рядом Вануйту.
— Прилетал один лет пять назад. На воду садился, да только многие жители не видели его, они с оленями в тундре были.
В домике Вануйты было тепло. Его жена, дородная, ещё молодая женщина с ярко-голубыми глазами, возилась в кухне.
Познакомив меня с женой, Вануйта вышел в сени и вернулся с куском оленьего мяса и большим осетром. В тепле они сразу покрылись снежной дымкой. Вануйта снял с себя пыжиковую малицу, покрытую сверху синим сукном, и остался в свитере и меховых унтах. Я подивился его крепкой, широкоплечей фигуре. Совершенно белая шея Вануйты резко отличалась от обветренного до цвета тёмной бронзы лица с чёрными пятнами на не раз обмороженных щеках. Я подумал, что этот человек, видимо, всё время находится в тундре, а дома редкий гость и нам просто посчастливилось увидеть его. Я с первого взгляда проникся уважением к Вануйте.
Пока я глядел и думал, Николай Иванович снял со стены охотничий нож и стал строгать оленину тонкими ломтиками.
— Сейчас я угощу вас нашей северной закуской, — сказал он.
Я посмотрел на хозяина, потом перевёл взгляд на груду сырого мяса, ничего не понял и ничего не сказал. Искусно работая ножом, Вануйта настрогал и осетрины. Затем, сложив строганину в две миски, он вынес всё в сени. Когда мясо и рыба были убраны, жена нарезала хлеба, поставила на стол горчицу, соль, перец, налила в блюдечко уксус и положила вилки. В это время вошли Волохович и Рогожин. Раздевшись, они потирали замёрзшие руки.
— Вот сейчас и погреемся, — сказал Николай Иванович, разводя спирт водой.
«Не маловато ли воды добавляет директор?» — подумал я.
Вануйта, как будто угадав мою мысль, сказал:
— У нас на Севере слабее семидесяти градусов не пьют. Вот по рюмочке выпьем, покушаем, а потом и о делах поговорим.
Он вышел в сени и вернулся, неся миски со строганиной, густо посолив её. Мы с опаской посматривали на необычную закуску и чувствовали себя неловко. Поняв наше смущение, Вануйта подбодрил:
— Раз уж приехали на Север — ешьте строганину. Вам ещё не раз придётся её отведать в тундре, и даже без соли.
Довод был веский.
— Давайте сначала осетринки, она легче пойдёт, — угощал хозяин.
Рогожин первый поддел вилкой небольшой кусок осетрины, густо помазал горчицей и, обмакнув в уксус, проглотил, не жуя.
Вскоре мы освоились с закуской. Выпив по второй рюмке, стали жевать.
После строганины хозяйка подала большой чугун с тушёными куропатками. Съев по птице и запив сытный обед крепким чаем, мы попросили разрешения перейти к деловому разговору. По просьбе Рогожина, Вануйта подробно рассказал о тундре, реках, охоте и оленях. Оленеводство для него было, видимо, самым любимым делом, и он с увлечением говорил о совхозных стадах, о пастухах и пастбищах.
На волновавший нас вопрос он ответил:
—