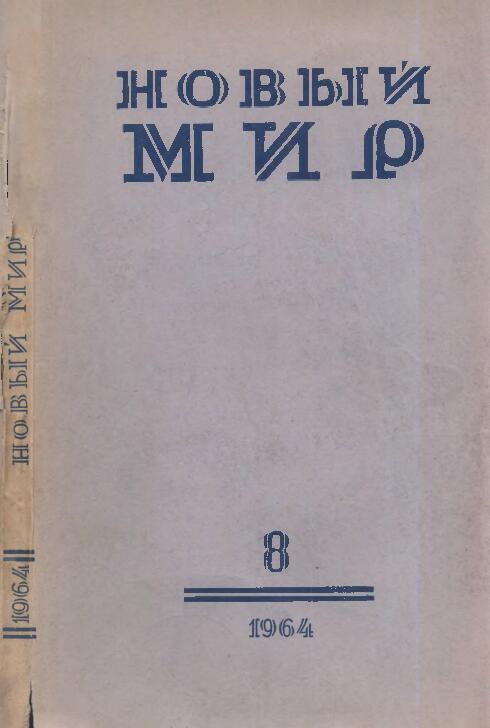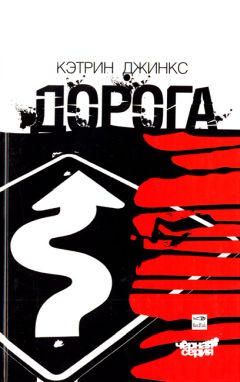из нас не дано права эти сроки изменять. Вы меня поняли?
— Яснее ясного, — ответил я.
— Ну так вот, думайте, как это выполнить. — И уже немного мягче добавил: — На заседании Совета Министров я заверил, что мы с поставленными задачами справимся и будем достойными пионерами самой большой в мире заполярной магистрали.
Последние слова Пётр Константинович сказал торжественно.
— У нас есть ещё один план. Разрешите доложить? — спросил я и подробно рассказал, о чём мы только что говорили с Борисовым.
Татаринов дослушал внимательно.
— Сколько нужно будет снега расчистить на площадке в Уренгое, чтобы садились самолёты ЛИ-2?
Я вопросительно посмотрел на Борисова.
— Поле должно быть километр длиной, сто метров шириной. Ну и в глубину там снега, видимо, лежит на метр. Так что в сто тысяч кубов уложатся, — подсчитал лётчик.
— Значит, по десять тысяч на брата, — зло заметил Татаринов. — Да ещё сколько наметёт, пока чистить будете. Ерунда! — рассердился он. — Подумайте до завтра. — И велел секретарю вызвать машину.
Ночью пурга немного утихла.
Утро мне ничего нового не принесло. Я всю ночь ворочался на топчане, прислушиваясь к завыванию ветра и думая, как уговорить Татаринова и Борисова забросить меня самолётом в Халмер-Седе.
Мне пришлось доказывать Татаринову, что в Уренгое я организую олений транспорт навстречу тому транспорту, который выйдет из Салехарда. Я заведомо врал, так как сам знал, что оленьего транспорта в Уренгое достать невозможно: мне ещё накануне сказали в окружкоме партии, что поделка нарт и упряжки займёт два-три месяца. Я только чутьём угадывал, что нужно быть на месте и там организовать всё, что возможно. С горячностью я настаивал на своём, и Татаринов, внимательно слушая меня, в конце концов сдался, но только потому, что и сам он, несмотря на свой огромный опыт, ничего другого предложить не мог.
Выйдя из кабинета Татаринова, я сразу бросился к телефону и сообщил Борисову, что полёт разрешён.
— Хорошо. Машины будут готовы завтра рано утром, — ответил Борисов. — А сейчас присылай свой народ аэродром чистить. Пусть тренируются.
Я собрал пятьдесят человек и пошёл с ними на лётное поле. Там уже тракторы разравнивали и укатывали снег. Нам оставалось только откопать занесённые пургой самолёты.
В день вылета я приехал на аэродром, когда было ещё темно.
Колючий ветер гнал по лётному полю позёмку в сторону города, очертания которого были еле видны сквозь снежную пелену. Командир самолёта ЛИ-2 Ганджумов — или, как его звали в отряде, Джамбул — посмотрел на проносившиеся рваные облака, на метеосводку, принесённую радистом, и велел готовить самолёт к вылету. Механик и моторист стали заводить моторы. Холодные, они вначале «чихали», выбрасывая клубы чёрного дыма, но, постепенно прогревшись, заработали ровно.
Вдесятером мы разместились в самолёте на холодных скамейках и ящиках со снаряжением. Ганджумов вырулил машину на старт. Проверив моторы на больших оборотах, он отпустил тормоза, и самолёт покатился по ровному полю, набирая скорость, навстречу ветру и метели. В окна было видно, как два ПО-2 выруливали со своих стоянок, чтобы лететь вслед за Ганджумовым.
Не отрываясь, я смотрел в окно — но там, кроме снега, ничего не было видно. Только иногда под крылом проплывали еле заметные понижения с чахлой растительностью.
Потом снежная пустыня стала совсем ровной, самолёт почти перестало бросать, и я понял, что мы летим над Обской губой. За губой раскинулась опять тундра, и через два часа полёта Ганджумов посадил ЛИ-2 в Халмер-Седе. Выгрузив снаряжение и бочки с бензином для ПО-2, он улетел обратно в Салехард.
Ветер заметно усилился. Когда через полтора часа прилетели ПО-2, их сразу же пришлось привязывать тросами на стоянках, чтобы не опрокинуло.
Кое-как разместив сотрудников экспедиции и экипажи самолётов, я пошёл в поселковый Совет. За столом, покрытым красной материей с пятнами чернил, сидел пожилой ненец. Он курил трубку и не обратил на меня никакого внимания. На моё приветствие он ответил: «Ладно», — и отвернулся.
— Мне нужно видеть председателя Совета, — обратился я к нему.
— Его уехал, — последовал лаконичный ответ.
— А когда будет? — допытывался я.
— Моя не знает.
Говоря о погоде и расспрашивая о дальнейшем пути следования экспедиции в Уренгой, я немного заинтересовал ненца. На вопрос, можно ли достать оленьи упряжки, чтобы доехать до Уренгоя, он ответил:
— Нашем месте нет, а совхоз Самбург шибко много есть. Наш олень совсем плохой, ездить не терпит, — добавил ненец. Потом он достал из кармана малицы горсть табака и, заложив за нижнюю губу, отвернулся от меня, уставившись в замёрзшее окно.
Видя, что ненец явно тяготится моим присутствием, я вышел и направился в дом, где разместились сотрудники экспедиции. В доме было настолько холодно, что снег на валенках не таял. Лётчик Миша Волохович растапливал печку. Дрова из собранного плавника были сырые и не горели. Миша толкал в печку старую резину, подливал отработанное масло. В комнате было дымно и противно пахло жжёной резиной.
Разогрели кое-как и съели консервы, не снимая с себя меховых костюмов. Стало теплее. Лётчики заставили выпить разведённого спирта и радистку Марину, единственную девушку в нашей группе, впервые попавшую на изыскания, да ещё в Заполярье.
В первый раз она и на самолёте летела. Когда Марина ещё только поднималась по лесенке в самолёт — она чуть не дрожала от страха. А в воздухе, когда ЛИ-2 бросило вниз, Марина закричала: «Ой, падаем!» — и вцепилась мне в руку. Все засмеялись, а проходивший мимо бортмеханик, посмотрев на неё, ехидно улыбнулся. Я объяснил ей, что это воздушная яма и ничего тут страшного нет. От обиды и стыда у Марины на глазах выступили слезы, и она, закусив губы, уткнулась в окно.
Постепенно страх проходил, Марина стала рассказывать мне о доме, о тех, кто остался в Сибири, в Иркутске, о родных. Вспомнила, как плакали мама и бабушка, не отпуская её одну в такой далёкий путь, и только папа принял её сторону и убедил их, что она