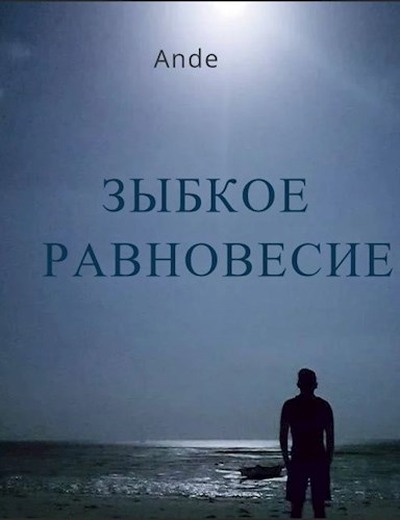зимней сессии сдать хвосты. Но я понадеялся на авось. Декан сказал — ступай служить, может, мозги на место встанут. После армии возьмем на второй курс, если надумаешь. В прошлой жизни я надумал.
В этот раз, мне кажется, это лишнее. Нет, учиться я пойду. Это же просто песня — четыре года пинать гавно, вместо того, чтобы стоять у станка. Нужно только решить, где я буду учиться. То есть, куда я переведусь. Понятно, что не в Москву с Подмосковьем, а в Питер. Но вуз я еще не выбрал. Разрываюсь между финэком и универом.
В универе сейчас учится Медведев, что предполагает шикарные возможности потом. А финэк — сам по себе возможность. При первых проблесках перестройки забодяжить банчок, по-быстрому скоммутироваться с империалистами, и стать их филиалом. На старте реформ это более чем реально.
Только это все пустое. Население хочет как всегда — отсутствия перспектив, в обмен на обещания светлого будущего. А все, кто это будущее делает себе сам, вызывают отторжение. Ладно, успею еще подумать.
Сенсацией утра стал инсульт Зинаиды Вишняковой, директора райпо. Нет, так-то общественность все понимает. Чрезмерно располневшая Зинка не выдержала жары. И, у себя в кабинете, грохнулась в обморок. Сейчас в больнице, в Кавказской, совсем плоха.
Я к этой новости отнесся равнодушно. Смолил лодку. Дело медитативное. Соскрести старый битум, пройтись паяльной лампой, проконопатить, залить битумом, пройтись паяльной лампой… Разделся по пояс под жарким солнцем, развел костер греть битум. Да и приступил. Душно, и если бы не легкий ветерок с реки, то я бы пожалуй отложил до вечера. Но так — вполне терпимо. Свернул из газеты пилотку, и, знай себе постукиваю киянкой.
Так меня и застал двоюродный дед Шура. Он, кстати, занимает в колхозе так и не понятую мной до конца моей жизни должность — ездит на линейке. Линейка — это так называют на Кубани повозку, точь-в-точь как тачанка, только без пулемета. Запряжена парой гнедых. Что он еще делает в процессе езды, я так и не понял.
Дед Шура уселся в сторонке, закурил Приму, и молча, минут десять, наблюдал мой неспешный труд. Потом докурил, и сказал:
— Вишнячиха-то — того. Откинулась, — директор райпо скончалась в больнице, перевел я мысленно. Заодно подумал, что, похоже, она и в прошлой жизни померла от какой-то плохой новости. Прислушался к себе. Нет, не чувствую я себя виноватым.
Дед Шура между тем достал из за голенища хромового сапога плоскую бутылку из-под коньяка.
— Глюкоза, — сообщил он, — Чтоб шашель не заводился.
Чистый самогон, перевел я в голове, от всех болезней. Присел рядом с ним, и тоже закурил.
— Жарко, дед Шура.
— А мы по глоточку.
Я встал и дошел три шага до огорода. Сорвал два еще мелких огурца, один отдал деду. И мы сделали по хорошему глотку. А потом энергично захрумкали огурцами. Дед Шура встал.
— Уезжать будешь — зайди. Моя скалапендра бутылку поставит.
Зайди попрощаться перед отъездом, Лиза стол накроет, перевел я мысленно.
Он ушел. А я снова принялся смолить лодку. К вечеру закончил. И мы с соседями спустили её на воду. Вроде не течет.
На следующий день я проснулся до рассвета и поплыл на рыбалку. Это отдельная история, кубанские реки. У них своя акустика. И вообще, едучи на юг, на поезде ли, на машине ли, где-то после Белгорода замечаешь, что окружающее пространство звучит совсем иначе, чем где-нибудь под Тверью. Так и тут. Несмотря на темень, орут лягушки и непонятная живность. И все это создает почти зудящее предвкушение скорого восхода.
Обратно я приплыл в начале восьмого. Десяток мелких плотвичек и окуней. Пара линьков. Бабушка будет смеяться. Одна радость, лодка не течет. У нашей кладки неожиданно обнаружил Витьку Воробьева. Товарища всех детских игр и соседа, живущего через дорогу. Это смешно, но с другой стороны от Кировых наши соседи — тоже Воробьевы. Но это не те, что через дорогу.
— Привет, Колюнь! Ты чего это, неделю как приехал, а не показываешься?
— Я, Вить, столько не выпью, чтоб вам всем показываться. Да и по хозяйству тут закрутился.
— Мы уж думаем, загордился ты там у себя, в Ленинграде.
Я давно устал объяснять местным, что от Ленинграда живу в ста километрах. Здесь все твердо уверены, что вечерами я хожу на концерты Эдиты Пьехи, а когда не там, то в Эрмитаже.
— Да не. Я все равно к тебе собирался. Поможешь с билетом?
Витка — сержант милиции, работает в линейном отделе на вокзале. Все знают, что если нужен билет на поезд — это к нему.
— Чего же не помочь? Таксу ты знаешь. Лучше скажи, не хочешь с бреднем походить?
Только сейчас я заметил, что поодаль лежит свернутый бредень, сумка, ботинки.
— Сейчас вернусь.
Я примкнул лодку на цепь. Собрал удочки, сумку с уловом, и прочее барахло, и пошел к бабушке. Она, увидев улов, засмеялась, порубит уткам на корм. Я взял дедовы ботинки, сказал, что пойду с Воробьем. С бреднем пройдемся.
Там уже вертелась его десятилетняя сестра Танька. В лове с бреднем нужен третий. Выбирать из сети улов. Мы обулись, и полезли в воду.
Пока разворачивали снасть, Воробей рассказал, что сговорился с кумом. Но кум, Серега Вешняков — племянник усопшей директора райпо, ему не до раков сейчас.
В ходьбе с бреднем главное — не спешить. Поэтому, хотя прошли едва пару километров, вылезли на берег мы спустя часа четыре. Но оно того стоило. Полное ведро крупных раков. Щука, сдуру угодившая в сеть, и несколько крупных рыбин.
Пошли к нам на двор.
— Баба Аня! — заорал Витька. — Я тебе рыбы принес.
— Спасибо милок, — засмеялась бабушка. — А то эти городские только воду баламутят, никакого проку.
Залили раков водой из колонки во дворе. Я взял у бабушки соли, перцу, лаврушки. И ушли опять на берег. Разложили бредень сушиться. В тени разросшейся тютины (так здесь называют тутовник), расположились на ветерке. На старом кострище, где я топил битум, поставили ведро с раками.
Витька разлил по полстакана