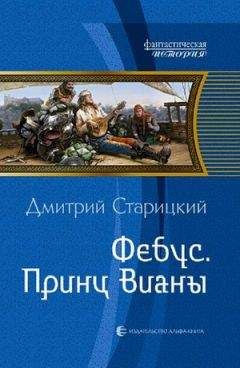Когда все закончилось, епископ отслужил торжественную мессу в соборе, на которой присутствовали все действующие лица.
Да, совсем забыл: от всеобщей нобилитации все три бегетерии наотрез отказались. В Басконии крепостное право только-только начало отменяться выкупами феодальных повинностей. И если признать сервов нобилями, то выкупные денежки — тю-тю… Держать дворянина в крепостной зависимости не позволяют фуэрос, которые, наоборот, предписывают оделять вассала престимонием, чтобы тот мог полноценно нести конную рыцарскую службу.
Да и мои ближники постарались за предыдущие дни популярно донести эту мысль местному населению, чтобы она дошла до самых тупых сеньоров. Ненавязчиво так, в тавернах и сидериях за стаканчиком сидра. Инструкциями я их озадачил заранее, как и деньгами на пропой и угощение.
Все омрачил только Гриня, зарубивший саблей того тощего кастильского кабальеро. Насмерть.
Утро выдалось хмурым, как мое настроение. Только-только закончились яростные судебные прения, и пришло время принимать решение и объявить приговор. Я как сеньор Бискайский — еще и верховный судья тут.
Хорошо, что еще удалось без споров внедрить в процесс коллегию присяжных лавников из дюжины кабальеро — идею суда равных, когда присяжные из одного сословия с обвиняемым выносят вердикт его виновности или невиновности, а судье остается только назначить наказание или письменно зафиксировать невиновность. Удивились местные только таким количеством присяжных, так как суды и раньше здесь всегда проводились с заседателями, но в гораздо меньшем количестве. Так что моя идея, стыренная у британцев, не противоречила местным фуэрос.
Лавников нашли быстро — никто из местных не отказался от предложенной чести.
Епископ Бильбао сам привел их к присяге, что судить они будут честно, беспристрастно и невзирая на лица.
Суд удалился на совещание. То есть я удалился с площади в храм божий подумать и помолиться заодно. Трудная у меня задача. Половина присяжных оправдала Гриню, как правомерно защищающего свою честь, другая половина на тех же фактах посчитала, что он виновен в умышленном убийстве. И снова вся ответственность взвалилась на мои неокрепшие плечи. И права на ошибку у меня не было. С одной стороны, сдавать своего человека последнее дело, с другой — должна восторжествовать справедливость… а с третьей — нельзя чрезмерно обострять отношения с Кастилией, которая и так получила оплеуху от Бискайи, ушедшей под мою корону. А умыть руки и переложить ответственность на самих басков у меня не получилось, как ни старался.
В итоге, с четверть часа полировав задом церковную лавку, я вышел на площадь под дуб, сел в кресло, поднял меч и объявил свой приговор:
— Божий суд. На перекрестке. До первой крови.
Звучало это несколько по-мальчишески, но иного выхода я не видел.
— Как Божий суд? — взвился возмущенный кастильский вельможа. — С этим варваром? Схизматиком!
— Если вы, дон Диего, — Микал украдкой шепнул мне узнанное им имя кастильского графа, — считаете себя вправе оскорблять дона Григория — особу царской крови, то вы лично и выйдете против него на перекресток. Без замен. В полдень. Не явившаяся сторона признается проигравшей и выплачивает вергельд… — Тутя запнулся.
— Пятьсот суэльдо… — вполголоса подсказал отец Жозеф.
— В пять сотен суэльдо, — утвердил я.
Кастилец от злости из штанов чуть не выпрыгивал, но грозить мне поостерегся. Все же знает край, чтобы не падать. Царедворец.
— Какое оружие, княже? — только и спросил Гриня.
Все остальное, казалось, его и не интересовало совсем.
Спокойный как слон.
— А то, что у каждого сейчас на боку. Без доспехов. В одних нательных рубахах, — удовлетворил я его любопытство. — В левую руку по желанию могут взять баклер или дату.
У кастильца болталась на вышитой золотом перевязи длинная рапира. Эта шикарная перевязь мне напомнила сцену знакомства д’Артаньяна с Портосом. Так и подмывало заглянуть графу под плащ, чтобы увидеть там простую кожу. Но, узрев его побледневшую рожу и колючие глаза, отказался от этого намерения. Он и так сейчас на взводе, после того как вчера увидел, на что способна елмань от хорошего арабского кузнеца, разрубающая человека почти пополам.
Гриня же похвалялся подаренной ему мною дамасской саблей, которой вчера он насмерть и зарубил секретаря мадридского посла. А все потому, что иностранные языки надо знать, а если не знаешь, то и не выёживаться сверх меры, чем оба дуэлянта вчера отличились сполна.
Прямо по старому анекдоту:
«Хеллоу, кэп! — А? Что? Кто уйло? Я — уйло?»
Ровно в полдень на ближайшем от собора перекрестке собрался весь бомонд Герники.
Здесь же на улице епископ Бильбао окормлял в последний путь кастильского графа, а Гриня причастился, исповедался и получил прощение грехов у Гырмы. Я вообще стал замечать, что казак с амхарцами тесно сблизился, после того как я сказал ему, что они не «латыне», а ортодоксы: считай что православные по сравнению с Римско-католической церковью. Даже пили они в последнее время вместе. Только что по бабам Гриня ходил один. Или с Микалом. Тут Мамай различий по религиозному признаку не делал — лишь бы кунка не была поперек.
Распорядитель Божьего суда, выделенный на это действо от Генеральной хунты, довольно молодой еще человек, вооруженный протазаном, встал в центре перекрестка и дал команду приготовиться к поединку.
Секунданты стали разоблачать дуэлянтов от лишней одежды. У Грини секундантами, естественно, оказались амхарцы, готовые немедленно сразиться с секундантами кастильца, и очень огорчились, когда им сказали, что такого вмешательства не требуется, потому как будет Божий суд, а не тривиальная дуэль.
Кастильского графа окружала целая толпа — человек так с дюжину. Вассалы, слуги и прихлебатели. Все расфуфыренные донельзя: серьги, ленты, банты, перстни, цепи… Как бабы, ей богу, тьфу… Сам граф в вышитом золотом бархатном костюме на их фоне казался образцом скромности.
Небо снова заволокло тучами, на что я только порадовался, что не так жарко будет рубиться моему «верному».
Наконец покончив с приготовлениями, поединщики вышли к центру перекрестка на Божий суд. В одних льняных рубахах на торсе.
Гриня в левую руку выбрал небольшой кулачный щит — баклер. В синих атласных шароварах и распахнутой белой рубахе он был очень похож на тот образ казака Мамая, который активно тиражировался в Малороссии и на Кубани с семнадцатого века до радикально покончившей с казачеством революции большевиков. Лицо его было спокойно, взгляд безмятежен.