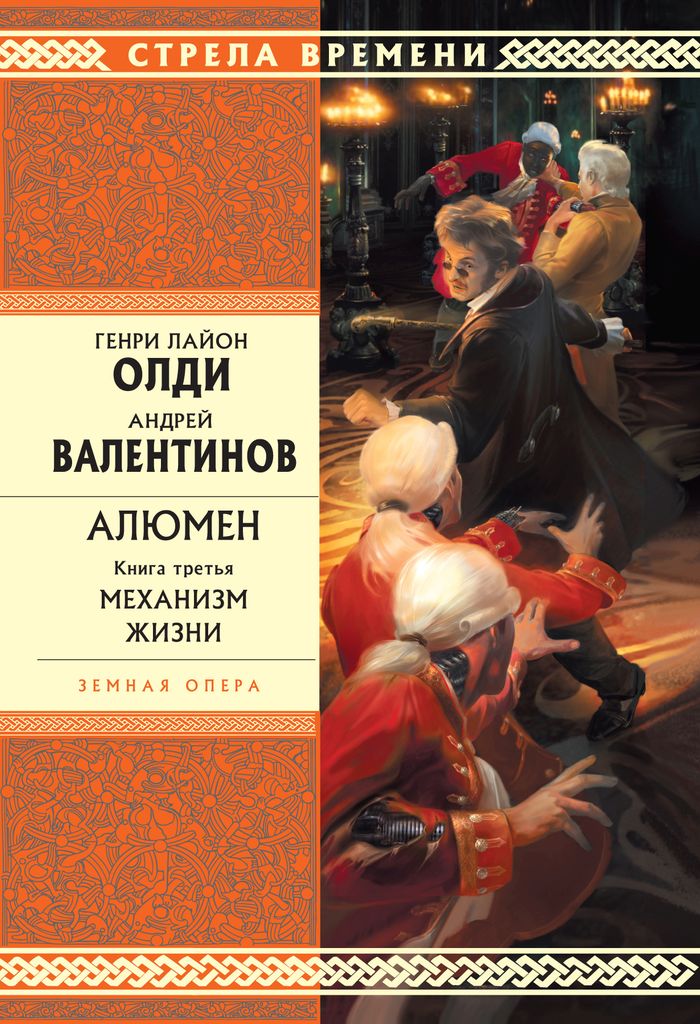ошибка исключалась.
— Мой отец, Марк Гамулецкий, — фокусник с гордостью подбоченился: ни дать, ни взять, герой-воробышек, — служил в прусской армии. В чине полковника, знаете ли. Пистолет — моя первая игрушка в детстве. Я починил сломанный замок «жилетника» в пять лет.
И Андерсу Эрстеду, полковнику Черного Ольденбургского полка, стало ясно, что Антон Маркович Гамулецкий никогда не воевал.
Дальнейшие чудеса были восхитительны. Никто из посетителей не пожалел, что выложил за вход четвертной ассигнациями — билет в ложу Александринки (на премьеру «Елены Прекрасной», да‑с!) стоил пятью рублями дешевле. Купидон, точивший стрелу, привел дам в экзальтацию. Амур, взлетев из вазы, окончательно добил прекрасных зрительниц. Луку амур предпочитал арфу, ловко бренча мотивчик из фривольного водевиля.
— Ах!
— О-о-о!
— Чудо!
Часы отбивали время, повинуясь приказам гостей. На зеркальном столике танцевали бумажные фигурки. Механический кот мяукал из угла. Механическая змея, шипя, ползала между ножек стульев. Механический петух кричал зарю. Карточный пасьянс раскладывался сам собой и, что удивительней всего, каждый раз сходился.
— Маменька, смотрите!
— Всякое видел, Евграф Алексеевич. Но такого…
— Charmante!
Голова чародея, отделанная под бронзу, отвечала на вопросы. В голове без труда узнавался создатель «Храма очарования». Приплясывая рядом, словно бодрый труп, вставший после гильотины, мэтр Гамулецкий уговаривал почтенную публику спрашивать еще.
Заинтересовавшись, Эрстед спросил у головы по‑немецки: какова формулировка закона Бойля — Мариотта? Голова ответила без запинки, с чудесным берлинским произношением. Тогда Эрстед перешел на французский: каковы же отклонения от сего закона? Голова, не чинясь, стала перечислять отклонения, щеголяя парижским выговором.
В ответах легко узнавались результаты исследований академика Эрстеда-старшего.
— Достаточно!
— Спросите у нее, будет ли война с турком!
— Фи, как скучно!
— Маменька, велите ей сказать: идет ли мне шаль…
Едва уговорив собравшихся потерпеть, Эрстед предпринял еще один эксперимент. С разрешения фокусника он взял голову и перенес ее к зеркальному столику, где установил рядом с бумажными танцорами. Во время переноски голова без умолку болтала на шести языках. Обождав, пока «чародей» сделает паузу, датчанин спросил:
— Что говорил о науке Конфуций?
Вопрос был задан по‑китайски.
С минуту голова молчала. Зрители ждали, не мешая. Ни слова не поняв в вопросе, гости тем не менее искренне радовались посрамлению фокусника. Так толпа в цирке с замиранием сердца ждет падения канатоходца.
— Маменька, она умерла?
— Жива… моргает!..
— Тот, кто учится, не размышляя, — с ехидцей прервала молчание голова, — впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении. Добавлю от себя: достойный муж не видит чести в посрамлении собеседника.
Окажись здесь отец Аввакум из пекинской миссии, он опознал бы фуцзяньский диалект. Впрочем, «чародей» повторил свой ответ и по‑русски: для общего вразумления.
Еще полчаса восторга, и публика, возбужденно гомоня, покинула зал. Эрстед задержался. Оставшись с фокусником наедине, он дождался, пока старичок отсмеется. По щекам Гамулецкого текли слезы, он радовался, как ребенок. Неизвестно, всякий ли раз он хохотал, едва зрители уходили. Над кем смеялся фокусник, также осталось загадкой. Но Эрстед не чувствовал ни малейшей обиды.
Смех Гамулецкого был заразителен и простодушен.
— Ваше искусство выше любых похвал, — наконец сказал Эрстед по‑немецки. — Нет, я предполагал, что увижу высокое мастерство… Но вы просто покорили меня.
— Пустяки, — отмахнулся фокусник. — Любой хороший механик…
— Не любой. Отнюдь не любой. Замечу, что вы во всем превзошли своего учителя. Давний спор завершился, как по мне, полной вашей победой. То, что я увидел…
Старичок оставил веселье. Черные слезящиеся глазки внимательно уставились на гостя. Чувствовалась в Гамулецком скрытая пружина. Даже когда он стоял на месте, а это с мэтром случалось редко, все казалось: вот-вот он подпрыгнет, хлопнет в ладоши и отчебучит лихую шутку.
— Учитель? — спросил Гамулецкий по‑русски. — Кого вы имеете в виду, Андерс Христианович? Кемпелена с его «шахматистом»? Пинетти? Вокансона? Семейство Жаке-Дрозов? Вы уж объяснитесь, голубчик, уважьте старика…
Датчанин не помнил, чтобы сообщал фокуснику имя своего отца.
— Я имею в виду Калиостро, — он тоже перешел на русский, желая попрактиковаться. — Насколько я знаю, Антон Маркович, вы были в числе его последователей. Варшавский кружок, да?
— Насколько вы знаете… — задумчиво повторил Гамулецкий. — А насколько вы это можете знать, Андерс Христианович? Варшава, милая Варшава… Когда я вступил в «Египетскую ложу», вам, голубчик, полагаю, было годика два, не больше. Когда же я последовал за Калиостро в Париж, вам исполнилось семь. Что‑то я не припомню в нашем окружении столь молодых людей…
Зеркала на стенах вдруг проявили странный характер. Создавая иллюзию пространства, они отражали все: кубки, вазы, стулья, столы, «воскрешенного» арапа, стоявшего без движения… В анфиладе залов не было одного — людей. По идее, десятка два Гамулецких беседовали бы сейчас с двадцатью Эрстедами, когда б не упрямый норов зазеркалья.
Там и раньше никто не отражался, вспомнил датчанин. Только куклы, не люди. Как же он это делает?
— О вас и Калиостро мне рассказывал барон фон Книгге.
— Филон? — фокусник назвал фон Книгге старым иллюминатским прозвищем. — Охотно верю, голубчик. Ваш барон отличался редкой болтливостью. Он всем рассказывал про всех и ухитрялся извлекать из этого сугубую пользу. Обычно это приводит к неприятностям, но не у Филона. И что же он вам поведал о нас с Калиостро?
Последняя фраза была произнесена с нескрываемой иронией. Ему восемьдесят лет, подумал Эрстед. Святой Кнуд! — ему восемьдесят лет, и он бодр, как юноша. В Варшаве Калиостро торговал «эликсиром молодости»… Нет, это невозможно!
— Фон Книгге утверждал, что вы поссорились с его сиятельством, — на иронию датчанин ответил иронией, помня, что графским титулом Калиостро наградил себя сам, желая ни в чем не уступать конкуренту, графу Сен-Жермену. — Дескать, вы побились об заклад, что повторите все кунштюки мага, не прибегая к египетской лжи и дурно пахнущей трисмегистике. Механика, физика и толика ума. Маг обиделся и предрек вам поражение. По словам фон Книгге выходило, что Калиостро даже в тюрьме Сан-Лео, больной и сопротивляющийся яду, сохранил величие духа…
— А я? — расхохотался Гамулецкий. — Я, значит, на свободе и не сохранил?
— Прошу извинить меня, мэтр. Барон сказал, что вы — часовщик.
— Этим он желал оскорбить меня? Ах, Филон, Филон…
Эрстед почувствовал, как холодок бежит у него по спине. Он ясно видел, что Гамулецкий не произнес ни слова. Сокрушенный вздох «Ах, Филон…» раздался у датчанина за спиной. Обернувшись, Эрстед заметил, как шевелятся ярко-красные губы у головы «чародея», забытой на зеркальном столике. Бледность воскового лица, повторяющего черты фокусника, оттенялась зеленой, как свежая трава, чалмой.
— Да, я часовщик, — продолжила голова, не смущаясь вмешательством в чужую беседу. — Но я — превосходный часовщик. Желаете послушать мою кукушку? Гните угол, [6] и добро