Ну да, надежда умирает последней. Однако же на этот раз обошлось без жертв, уж, видимо, в рубахе на вырост родила мама Бурова. Когда на следующий день он плелся по тропе, то неожиданно заметил среди деревьев человека. Плотного бородача с ружьем, в штормовке цвета хаки. Странно, но что-то в биомеханике его движений показалось Бурову знакомым. Постой-постой… Бородач же, в свой черед заметив Бурова, особо удивляться не стал — мигом, как гласит закон тайги, взялся за ружье и, отпрянув в сторону, спрятался за дерево. А как же — медведь — прокурор, закон — тайга… И стало тут Бурову и грустно, и смешно: вот ведь, блин, жизнь, везде одно и то же — что в объятиях цивилизации, что на лоне природы. Ишь, как боимся-то себе подобных, по сторонам шугаемся, хватаемся за стволы. Вот уж воистину, что раньше, что сейчас — homo homini lupus est.[100] А идем навстречу лишь в случае нужды, если подопрет, когда наступает край и выбоpa уже нет. Мудро сказал кто-то — чтобы нас объединить, большая беда нужна.[101] М-да. И все же почему этот мохнорылый с ружьем движется так знакомо? Да, странно, странно… Ладно, сейчас узнаем.
— Эй, друг! — Буров поднял оружие над головой, не спеша повесил на сучок и, держа здоровую руку на виду, пошагал по направлению к незнакомцу. — Эй, друг, не бойся! Разговор есть.
В животе у него было как-то неуютно — а ну как жахнет сейчас этот друг пулей двенадцатого калибра.
— Разговор, говоришь? — отозвался бородач, с осторожностью вышел из-за кедра и, держа наизготове ижевскую двустволку, медленно пошел навстречу. И вдруг застыл, вгляделся, опустил ружье. — Рысь? Ты? Брат…
Тут и Буров понял, отчего это бородач двигается так знакомо. Вот это да — перед ним стоял Иван Зырянов, водитель молоковоза, прибивший как-то насмерть докучливого гаишника. Вместе тянули срок, семейниками были, по-братски делили пайку, отмазывали друг друга… Это ведь он, Иван Зырянов, сделал Бурову заточку, когда тот намылился в бега, портянки байковые отдал, морально поддержал, не выдал. Проверенный, крученый кент, надежный, как скала. Не будь его…
— Ну, здорово, Ваня, — Буров одноруко обнял его, похлопал по спине, — гора с горой не сходятся, а мы вот…
Он еще полностью не осознал всей глубины своего везения, того, что, видимо, и впрямь в счастливой рубахе родился.
— Рысь… брат… ты… — Зырянов, улыбаясь, тоже обнял Бурова, счастливо шмыгнул носом, блаженно прошептал: — Братуха… — Заглянул в глаза, неспешно отстранился, погасил улыбку, разом помрачнел. — Ты что ж это, брат, ранен?
Чувствовалось, что он не помнит имени Бурова, только зоновскую, прилипшую еще со времен СИЗО кликуху.[102] Да и неудивительно, лет, наверное, семь уже прошло…
— Медведь подрал, вчера. — Буров тяжело вздохнул, мысленно, в который уже раз, обозвал себя кулемой, однако тему развивать не стал, дружески улыбнулся: — Давай-ка, Вань, потом. Спирт ты пить не разучился?
Спросил так, чисто риторически, положительный ответ знал заранее.
Ладно, разожгли костер, вытащили немудреный харч, с чувством, с влажными глазами подняли извечный тост за встречу. И зажурчал, согревая души, спирт, и потекла неспешная дружеская беседа…
— Ты когда ушел, зона не работала три дня. — Щурясь, Зырянов подложил в костер лапника для дыма, усмехнулся зло. — Каратаев,[103] сука, всех на уши поставил. А потом собрал отрядных завхозов и объявил, что взяли тебя живьем и лежишь ты, Рысь, порванный собаками, на лагерной больничке в Мерзлихино. От нас, мол, не убежишь. А Шаман,[104] как узнал о том, только головой мотнул да рассмеялся с оскалом: «Брешет, пидор красноперый, на понт берет. Жив Рысь, ушел. Встретитесь еще. А я — все… Сдохну скоро. Дух-хранитель сказал. Сегодня ночью во сне приходил. Каркал шибко, к себе звал». — Зырянов замолчал, насупился, уставился на огонь. — И вишь ты, всю правду сказал. Мы с тобой сейчас здесь, а он давно уже там. С духом этим своим. И с двусторонним туберкулезом…
— М-да. — Буров мысленно помянул добром Шамана, сдерживаясь, негромко вздохнул и, чтобы покончить с печальной темой, заговорил о другом: — Слышь, Вань, а чего тебя в тайгу-то занесло? Или рулить надоело?
И вдруг понял, что куда лучше было бы промолчать — Зырянов помрачнел, как ночь, серое оскалившееся лицо его сделалось страшно.
— Жить мне, Рысь, надоело. Я ведь в рейсе был, когда шандарахнуло-то. А жена с ребенком дома. На третьем этаже. Когда вернулся, еще и раскапывать не начинали. — Он внезапно замолчал, мрачно шмыгнул носом и испытующе, с недоверием, уставился на Бурова: — Ты что, Рысь, с луны свалился? Не врубаешься, о чем речь? Или забыл, как Япония накрылась?
— Япония накрылась? — изумился Буров, честно посмотрел Зырянову в глаза и с твердостью, чтобы никаких обид, соврал: — Да я, Ваня, в коме, контуженый лежал. Ни хрена не помню, напрочь все отшибло. Так ты говоришь, Япония?
— И Япония, и Курилы, и Сахалин. По мелочи еще что-то там, — кивнул Зырянов, оторвал тяжелый взгляд, и голос его сделался бесцветен. — Вначале вдарило землетрясение, потом нахлынуло цунами. Владивосток, говорят, словно языком слизало, Хабаровск за мгновение превратился в руины. Да что там Хабаровск! Тряхнуло так, что по земле пошли волны, словно по морю. Девятиэтажник, где я жил, сложился карточным домиком. Жену опознавал потом по родинкам на ноге, а дочку вообще… — Зырянов замолчал, поперхал горлом и снова, чтобы хоть что-то сделать, подкинул лапника в костер. — Вот так, вернулся из рейса — ни дома, ни семьи, ни желания жить дальше. Ну а потом пошло-поехало. Лес сплавлял, золото мыл, баржи разгружал, в экспедициях ходил. Теперь вот сам по себе, тайгой кормлюсь. И охотник, и корневщик,[105] и добытчик, и вообще… Ну а тебя, Вася, каким ветром занесло сюда? Что, надоело среди людей?
Ишь ты, вспомнил все же имя-то. А то все Рысь да Рысь.
— Знаешь, Вань, давай не будем о грустном. После расскажу. — Буров коротко улыбнулся, мгновение помолчал и плавно перевел общение в практическое русло: — Лучше посмотри-ка, что там у меня с плечом? Болит, зараза, мочи нет…
Крякнул горестно и, к восторгу гнуса, начал раздеваться.
— Ну-ка. — Зырянов бережно снял повязку, оценивающе глянул, цокнул языком. — Ну, так твою растак. Царапина паршивая, сама не заживет. Не медом ее надо мазать, а лечить. — Наложил повязку, сердито сплюнул, с укоризной, в упор посмотрел на Бурова: — Слышь, Василий, лечить, а не таскаться по тайге.
По всему чувствовалось, что увиденное ему не понравилось.
— Ты мне здесь, Иван, не открыл Америку. — Буров усмехнулся, побаюкал плечо и вплотную, чтобы не так беспредельничал гнус, придвинулся к дымокуру. — Чем разговоры-то разговаривать, может, лучше бы зашил? Нитку дам, иголку тоже. Спиртик вроде бы пока есть…
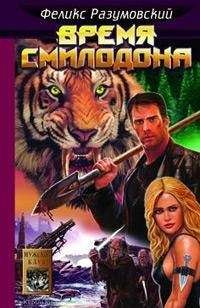
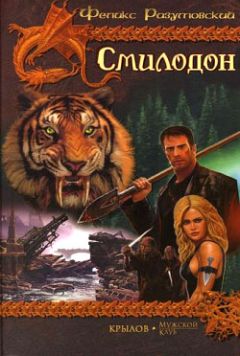
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)


