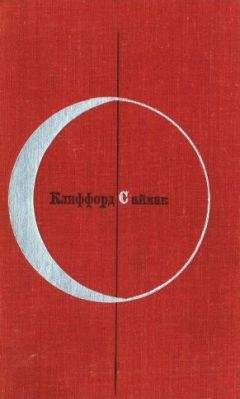полтора года назад указал, что мой дядя женат на русской.
— Убирайтесь к чертям, Кампенгаузен, не злите меня!
— Слушаюсь, господин оберштурмбанфюрер!
Мы уже въехали на машине в черту оживленного движения и городской жизни, оставив
позади полусельские предместья Гросс-Берлина, когда Харальд заговорил о
происшедшем:
— Старый служака, неудачник, ему всегда достается от начальства. Это, как ты
догадался, наш преподаватель Национал-социалистического мировоззрения…
буквоед. Соль моих реплик в том, что я цитировал его же лекции, особенно по
поводу масонов и гильотины: это его любимая тема. На каждом занятии он
рассказывает одну и ту же историю, давно ставшую легендарной, как один
асоциальный тип предпочел бегству на загнивающий Запад явку с повинной в гестапо
и на эшафоте, самоотверженно укладываясь под нож гильотины, заявил, что лучше
секунду жить в арийской стране, чем всю жизнь прозябать на загнивающем Западе. У
нас даже шутили, что если на экзамене пересказать ему эту захватывающую историю,
то полдела будет сделано.
— А что такое живой хронометр?
— Как у вас в школах наказывают учеников?
— Больше орут, и вообще в основном моральное воздействие: в сельских школах лет
пятнадцать назад был обычай выставлять провинившихся на общее осмеяние на
линейке младших классов.
— Э, вы еще не знаете настоящих наказаний! Правду, значит, говорил наш
преподаватель расовой психологии: славяне рыхлы и женственны, они — природные
диалектики, склонные скорее к болтовне, чем к активным действиям… Человек,
наказанный "живым хронометром", должен, стоя слева от кафедры под кабинетными
часами, причем спиной к ним, отсчитывать по секундам все сто двадцать минут
лекции и при этом еще улавливать тему лекции. И не дай бог, ты ошибешься на пять
секунд!
— М-да, не балуют вас… У нас преподаватели до такого не додумываются. Зато мы
должны выслушивать все их частные мнения и хотя бы для вида с ними соглашаться.
Один очень любит хвастаться, что в его семье автомобили были с 1909 года, только
во время войны автомобиль конфисковали и выдали расписку, по которой…
— Во время какой войны? Четырнадцатого года?
— М-м… нет! во время японской, пятьдесят второго года… А у вас бывают случаи
захвата террористами самолетов? — поспешно сменил я тему.
— Раньше были, теперь нет.
— Почему?
— Да потому что мы ничего общего не имеем с этими дебилами-янки, которые в
последнее время дошли до того, что посылают к террористам психологов, следящих
за их самочувствием и заботливо снимающих стрессы!!! Если этому американскому
дерьму так нравится, туда им всем и дорога! У нас в семьдесят третьем, когда я
родился, захватили лайнер Люфтганзы в Лайбахе, двое мужчин и одна женщина. Но
недаром мы, германцы, славимся своей тевтонской хитростью: мы их обманули и
взяли без единого выстрела. А потом их казнили мучительной казнью на
Александер-плац, и особенно женщину: в Америку ей поиграть захотелось! вот ей и
устроили настоящую Америку!
Я кажется, задел своим вопросом какую-то тонкую струну его натуры, и Харальд
высказался начистоту, хотя, как и все немцы, он всегда сдержан.
Мы вновь оказались в центре. Был зонтаг, и множество людей спешили за покупками
и увеселениями. Мы вошли в центральный хандлунг Берлина: Харальд приобрел
новенькую электронную пишущую машинку для Ингрид, а я, побродивши по переходам
пятиэтажной громады хандлунга, оказался в игрушечном отделе и вспомнил, что мама
просила купить что-нибудь для Аскольда — сына моей тети, ее младшей сестры. В
игрушечном отделе громоздились гигантские, в рост ребенка рыцарские замки,
которые по мановению руки с пультом управления опускали и поднимали мосты и
палили из пушек. У стен замков гарцевали и строились солдатики всех времен и
народов: в большинстве, естественно, из германской истории — большей частью
заводные и самодвижущиеся. Дальше шли модели танков, самолетов, подводных лодок,
ракет "Фау" и "Маргарита"; центр отдела занимала огромная детская железная
дорога под стеклом. Тут же продавалась национал-социалистическая символика:
флажки, детские эполеты, игрушечное оружие, стилизованное под настоящее. Еще
дальше — целый отдел охотничье-альпийской тематики: на фоне альпийских лугов с
цветущими эдельвейсами ежеминутно разыгрывались сцены охоты молодых блондинов в
альпийских шляпах на оленей и медведей. В следующем отсеке можно было приобрести
все мыслимые и немыслимые пляжно-спортивные принадлежности, а стройный спортсмен
на большой картине в массивной раме подавал детям благой совет: "В здоровом теле
— здоровый дух!" Начисто отсутствовали плюшевые медведи, идиотские маски и
прочая демократическая чепуха. Зато в набор дротиков для метания входили две
мишени, нарисованные на лбах китайца и негра. Ничего специально предназначенного
для девочек я тоже не заметил, и под конец купил большую ладью с резиновыми
викингами на борту. С этим я и вернулся к уже заждавшемуся меня Харальду,
который коротал время у обзорного магазинного телевизора, позволяющего под одним
углом зрения видеть весь центральный зал, а под другим — самого себя.
— Странно, — сказал я, когда мы садились в машину, — что у вас отсутствуют
игрушки для девочек.
— Так это ж был мальчишеский отдел. А девчачий — налево. Там сплошное
домоводство: куклы, посуда, детская мебель — в общем "Кюхен. Киндер. Кирхен"…
Мы рассмеялись.
— У нас ведь все иначе, чем в этой дебильной Америке. У нас женщина считает
своей ролью и долгом быть спутницей мужчины. И если женщина берет порой в руки
меч, то лишь затем, чтобы вовремя подать его своему мужчине… Моя сестрица,
правда, с этим не согласна. Она хочет быть валькирией. Но ничего — к двадцати
пяти годам она перебесится и поймет, что все равно лавры Ханны Райч для нее
недоступны…
Харальд — типичный немец, грубость и романтизм в нем нераздельны.
АВЕНТЮРА ЧЕТВЕРТАЯ,
в которой я попадаю на нордкарнавал, а Харальд становится героем дня.
И опять немецкой кровью
Можно миру дать здоровье.
Гейбель.
Женщина в штанах выглядит в Рейхе оскорблением общественной нравственности, и
поэтому, когда мы — я, Харальд и Ингрид — прибыли в громадное поместье фон