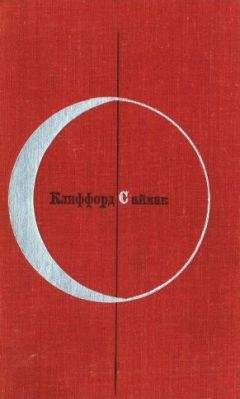которая и теперь не теряла времени:
— А верно ли то, что в России в Бухаре в каком-то музее можно увидеть "чашу
Рустама" в сто литров и кнут, которым можно погонять мамонтов?.. А правда ли,
что ваши врачи надеются когда-нибудь оживить забальзамированного Ленина? —
спрашивала она. Я отвечал, что знал.
Надо сказать, что та негритянская тамтамщина, которая гордо именуется
"современной музыкой", в Германии принципиально отсутствует. Ту музыку, под
которую мы танцевали, я бы назвал постсимфонической; она строилась на плавном
перетекании лейтмотивов с рядом неритмичных "скачков" звука, режущих эту
симфоническую макаронину на части. Впрочем, это мое личное и непрофессиональное
впечатление.
В разгар танцев — было уже около одиннадцати вечера — появился сам хозяин,
который пригласил всех нас к огромному — метр на метр — телевизору, по которому
должны были вот-вот показать казнь масонов. А пока что с экрана звучала
бетховенская музыка (та самая, что в "600 секундах"), и время от времени голос
диктора объявлял:
— Германцы, приготовьтесь к важному официальному сообщению.
К нам присоединились слуги и уже довольно почтенная бабушка Ганса: всем
полагалось присутствовать при таких мероприятиях, все должны были
демонстрировать единство при любых событиях и сообщениях.
Наконец на экране появилось изображение Александер-плац, окруженной со всех
сторон солдатами СС. В центре ее возвышался помост с гильотиной. Стража вела
восьмерых приговоренных. А диктор пояснял:
— Смотрите, германцы. Эти люди отказались от права первородства самой высшей в
мире нации. Они променяли нашу священную арийскую кровь, наше безоблачное
тевтонское небо, нашу твердую германскую почву на бредовые идеи подлой свободы,
губительного равенства и кровосмесительного братства. Продавшись врагам рейха,
они готовили нам участь порабощенной державы, вырождение нашей расы и гибель
нашей культуры. Да будут они казнены и прокляты германским народом!
— Будьте прокляты! — неожиданно для меня воскликнули все зрители вокруг.
Когда осужденные один за другим восходили на эшафот и укладывались на смертный
одр гильотины, стало заметно замешательство где-то слева от места казни. Солдаты
отгоняли какого-то человека, который лез напролом (читатель, должно быть,
догадался, что это был не кто иной, как мой попутчик Сванидзе, который по
возвращении в СССР раз тридцать пересказывал захватывающую историю, как он
рвался в первые ряды зрителей, а потом и к самому помосту, и как его побили, и
какой начался после этого международный скандал, и как наш посол в Рейхе
Белоногов приносил извинения…)
Сцена казни сменилась заставкой Большого Зала Рейха, и миллионы телезрителей
запели государственный гимн: Германия превыше всего, превыше всего на свете! И я
тоже подпевал.
После просмотра казни возобновились танцы, и германцы перешли от одного к
другому так же запросто, как средневековые бюргеры в свое время от помоста казни
к шутовскому балагану. Лишь моя любопытная партнерша не упустила случая
поинтересоваться:
— А у вас в России тоже так казнят государственных преступников?
— Нет, — ответил я, и, как потом выяснилось, не ошибся (хотя публичные казни
практиковались в Советском Союзе с 1948 по 1971 год, "как зримое воплощение
неизбежности наказания за содеянное" — так писали в газетах тех лет).
А в соседней зале несколько курсантов и среди них Зигфрид играли в
порнографические карты (что, впрочем, не вызывало никакого возмущения у
замечающих это девушек: им были неведомы вывихи заатлантического феминизма) и
обсуждали казнь масонов. Я присоединился к ним.
— Предателями становятся, — доказывал курсант с одной нашивкой за ранение (он
год назад попал в засаду, устроенную басконскими сепаратистами в окрестностях
Памплоны), — либо неудачники, либо люди, с жиру бесящиеся. Если человек
находится на своем месте, он гармонирует с социальной средой, и он далек от
желания изменить окружающий его социальный строй.
— Нет, — возразил Зигфрид, — предатели подобны верблюдам, которых манят миражи.
Некто однажды сказал: "Хорошо там, где нас нет". Вы заметили, что всем
революциям и социальным переворотам сопутствуют горькие разочарования в их
результатах. Революционер подобен алхимику, который вместо искомого золота
получает в конце своих трудов какую-то полурыжую смесь с запахом собачьего
дерьма. Этим дерьмом оказывается масонская свобода. Наисвободнейший человек —
это человек, падающий с самолета, его падение СВОБОДНО!
Все отреагировали на это дружным гоготом, а Зигфрид продолжал:
— Сколь мудр Гегель, считавший свободу осознанной необходимостью! Здесь истинная
свобода предполагает сознание и закономерность, чем можем похвастаться мы —
континентальные германцы, и чего явно не хватает нашим морским собратьям,
строящим свое мировоззрение на не правильной интерпретации некоторых кантианских
максим. А у вас, сударь, — кивнул он мне, — у вас в стране свободу считают
вороватой вседозволенностью, уж не обижайся, но ведь это так?
Будучи вынужден согласиться, я сказал:
— Вам куда легче клеймить предателей, апеллируя к национальному самосознанию. У
нас это гораздо сложнее, наша империя полиэтнична, главная наша идея — это идея
социального строя. Россия может быть только советской, иначе все полетит к
чертям. И именно в это идею бьют диссиденты…
— Диссидентами в России именуют евреев, — пояснил Зигфрид. — Кстати, все хотел
спросить, наказан ли тот… диссидент… который оскорбил память Пушкина?
— Не знаю.
— А что, что? — залюбопытствовали все остальные.
— Пушкин, — начал свой рассказ Зигфрид, — хотя и неарийского происхождения,
однако внес огромный вклад в формирование русской литературы. Тут уж, как
говорится, культура выручила расу. В России существует своего рода культ
Пушкина, подобно культу Гете в Германии (Гете был старшим современником
Пушкина). И вот лет двадцать назад появился труд, с позволения сказать, некого
Синявского-Израэля, диссидента, естественно, под названием "Прогулки с
Пушкиным". Большее издевательство над писателем, чем эта книга, трудно
представить. И что вы думаете? Он был казнен, подобно Грему Грину, ненавидевшему