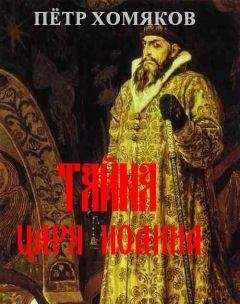— Ты спи, старик, — выдохнул он тотчас же уже спокойней и болезненно улыбнулся. — Не приобычен яз к избяному духу. Крышку затеял с окна сволочить…
Хозяин поманил Ваську к себе.
— Ляг. С дороги-то оно эвона како отдышаться надобно человеку.
И с отеческой лаской:
— Бродишь-то небось и сам срок потерял?
— Не счесть, старина!
— То-то ж и яз мерекаю… А звать тебя как?
— Ваською звать. Бобыль яз — Выводков Васька.
— Так, так, — зажевал беззубыми челюстями хозяин. — А меня, мил паренёк, Онисимом кличут.
Выводков помолчал, удобнее улёгся и сквозь сдержанный зевок процедил:
— А вы чьи будете людишки?
Гордо откашлявшись, Онисим отставил указательный палец.
— Живём мы за могутным господарем, за самим князь-боярином, Симеон Афанасьевичем Ряполовским.
— Могутный-то — спору нет, а невдомёк мне, пошто ночами починок робите, яко те тати.
Хозяин удивлённо оттопырил нижнюю губу.
— Коли ж и робить, мил человек? Аль не русийской ты, — не ведаешь, что положено Богом да господарями шесть дней робить холопям на князь-бояр?…
Он причмокнул и покровительственно потрепал соседа по крепкому и упругому, как шея молодого коня, плечу.
— Тут и пораскинь ты умишком. Токмо и наше, что единый день да семь тёмных ночей.
Один из рубленников перекатился поближе к Выводкову, не то серьёзно, не то со скрытой усмешкой, вставил!
— Оно бы жить можно. Пошто не жить? Одно лихо-кормиться нечем.
— И отпустил бы, выходит, боярин, избыток людишек-то, — зло дёрнулся Выводков.
Онисим и рубленник улыбчато переглянулись.
— Чудной ты, гостюшек! И не разберёшь, откель занесло тебя. Како князь-боярину без тьмы холопьей? Поди, зазорно ему перед суседями.
Хозяин ткнулся холодными губами в ухо гостя.
— Вот и нынче пригнал отказчик рубленников. Утресь кабалу писать будут. Хоромины князю новые поставить запритчилось.
Выводков сладко потянулся и, чувствуя, что сон властно сковывает всё его существо, почти бессмысленно хлюпнул горлом:
— Лют?
— Кто?
— Боярин.
— Како положено ему родом-отечеством. Не худородного семени сын, а от дедов князь-вотчинник.
И снова нельзя было понять, говорит ли серьёзно рубленник или подсмеивается над своими словами. Онисим же твёрдо прибавил:
— На то и поставлены Богом господари над людишками, чтобы через лютость и миловать другойцы.
И, сочно зевнув, отвернулся к стене.
— Спи. Не за горами и утро.
* * *
Васька проснулся, когда никого в клети уже не было. Накинув на плечи епанчу, он сунул за пояс оскорд и вышел на двор.
Починок был пуст. Только на краю узенькой улички в куче щебня возились полуголые ребятишки да чахлый кутёнок обиженно выл, тщетно гоняясь за неподатливым воронёнком.
Вдалеке, на раскисшей серым месивом пашне, копошились, разрывая навоз, холопи. Пригретый солнцем туман медленно расползался гнилыми клочьями овечьей шерсти и таял, теряясь в мреющих прогалинах розовато-бурого леса. По взбухшей спине реки, по тысячам синих жилок льда, точно согревшаяся кровь, скользили золотые лучи, неся с собой весть воскресающей жизни.
Бобыль постоял в раздумье у двери. Беседа с Онисимом не выходила из головы. Хмурый взгляд тяжело шарил по недостроенным избам, пытливо устремлялся за черёд осевших кривогорбых курганов, в сторону боярской усадьбы и стыл на ворчливой чаще леса.
«Уйти! — тряхнул он решительно головой. — Без нас рубленников достатно хоромины ставить господарям!»
Но тяга к людям была сильнее, и мысль, что здесь ждёт его работа рубленника, по которой он истомился, как надолго запертый в клетке кречет, приученный к охоте, гнали его упрямо и властно к хоромам князя-боярина.
С пашни шёл какой-то мужик.
«Уж не отказчик ли?» — испугался Выводков и юркнул в сарайчик.
В полумраке он разглядел охапку соломы и на ней серую тень девушки.
— Занедужилось нешто?
Тень заколебалась, поднялась на локте и удивлённо уставилась на вошедшего.
Васька приоткрыл шире дверь и шагнул в глубину. На него, не мигая, глядели глубокие сапфировые глаза.
— Яз — не лих человек. Лежи, коль недужится.
Она едва кивнула и смежила веки, От ресниц двумя трепещущими венчиками легли на подглазицах прозрачные стрелочки.
— Испить бы!..
И потянулась исхудалой полудетской рукой к глиняному ковшику, Бобыль подхватил ковшик, поддержал голову девушки и не передохнул до тех пор, пока вся вода не была выпита.
— Занедужила?
— Вся-то поизвелась.
Мягким дыханием ветерка прошелестел её слабый голос, порождая в груди непонятную тревогу и жалость.
Чтобы чем-либо проявить сочувствие, он неловко взбил слежавшуюся солому, спешно забегал по сарайчику, сгребая ногами сор и поднимая тучи удушливой пыли; потом, с медвежьей ухваткой, повернул девушку на бок и ухнул рядом на подгнившую чурку.
— Так-то вольготнее будет, — разодрал он в широкой улыбке рот.
Больная благодарно коснулась плечом его колена и чуть приоткрыла сухие губы.
— Отказчик доставил?
Выводков, стараясь изо всех сил не причинить боли девушке, осторожно провёл тяжёлой ладонью по её матовой щеке.
— Точно листок рябины по осени… алый и жалостный…
Она не поняла и передёрнула покатыми плечиками.
— Про кой ты листок?
— Про губы твои. А замест зубов — иней на ёлочке.
Лицо больной стыдливо зарделось.
Васька виновато потупился и, чтобы перевести разговор, торопливо шепнул:
— Сам пришёл… без отказчика. А ты давно маешься?
— С Васильева дня[5]. Думка была — не одюжу.
Помолчав, она робко спросила:
— Далече путь у тебя?
Бобыль скривил губы.
— Далече.
Он горько улыбнулся и двумя пальцами пощипал русый пушок едва пробивающейся бородки.
— А по правде ежели — сам не ведаю, где тому пути край.
И, устремив опечаленный взгляд в пространство, процедил сквозь зубы:
— Земли, доподлинно, многое множество, а жить негде одинокому человеку.
Больная недовольно поморщилась.
— Грех. Каждому творению своё место положено. Каково бы и кречету быть, ежели бы дичина вся извелась? Да и падаль на то Богом сотворена, чтобы было ворону, что поклевать.
Волчьими искорками вспыхнули раздавшиеся зрачки бобыля. Забываясь, он шлёпнул изо всех сил ладонью по спине девушки.
— Ан, вот горло перекушу, да не дамся тем воронам!
Больная в страхе перекрестилась.
— Сплюнь! Через плечо в угол сплюнь! Туги не накликал бы ты себе словесами кичливыми.