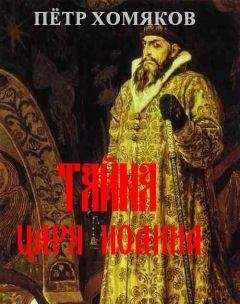— Сплюнь! Через плечо в угол сплюнь! Туги не накликал бы ты себе словесами кичливыми.
В её голосе звучала пришибленная покорность.
— Гоже ли чёрным людишкам с долею свар затевать?
Васька ничего не ответил и свесил голову на выдавшуюся колесом грудь. Сразу стало тоскливо и пусто, по телу разлилась безвольная слабость.
Девушка с немою грустью погладила его руку.
— Аль лихо какое приключилось с тобою, что кручину великую держишь в очах своих?
Он поднялся и, остановившись у выхода, заломил больно пальцы.
— От лиха и на свет холопи родятся, по лиху ходят да с лихом и в землю ложатся. На то и холопи.
И, точно жалуясь самому себе, тяжело перевёл дух.
— И пошто ты, туга, камнем на сердце лежишь?!
Рука потянулась к двери.
— Прощай, болезная.
— Куда же?
В голосе больной прозвучала такая глубокая ласка, что Выводков почувствовал, как глаза его застлались солёным туманом.
Неожиданно, не думая, помимо своей воли, он решительно объявил:
— Куда — пытаешь? К подьячему… кабалу писать на себя.
— Выходит, у нас будешь жить?
— А выходит!
Наклонившись над ожившим в мягкой улыбке лицом, он провёл рукою по кудели пышных волос девушки и вздрогнувшим голосом спросил её имя.
Она почему-то потупилась.
— Клашею звать… Онисима дочка яз, Клаша. А тебя?
— А яз — Выводков Васька.
Шагнув за порог, бобыль с шутливой торжественностью воздел к небу руки.
— Отныне Васька бобыль да Кланька Онисимова — одного князя холопи!
И скрылся.
Собрав все свои слабые силы, Клаша ползком добралась до порога и долго не сводила странного, полного тайной тревоги и восторженности взгляда с богатырской фигуры Выводкова, твёрдо шагавшего к кривогорбым курганам, к нахохлившимся низким хоромам князя-боярина Симеона.
Подьячий встал, вытер перо о сивые остатки волос на затылке и, тряхнув кабальною записью, строго поглядел на бобыля.
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Васька негромко повторил возглас и, повинуясь немому приказу, перекрестился.
Гнусаво и нараспев, отставив два пальца правой руки, подьячий читал кабалу:
Се яз, Васька, сын Григорьев, по прозвищу Выводков, дал есмы на себя запись государю своему, князь-боярину Симеону Афанасьевичу Ряполовскому, что впредь мне жити за государем своим, за Симеоном, во крестьянех, где он меня посадит в своём селе, или сельце, или деревне, или починке, на пустом жеребью, или пустоши, и, живучи, хоромы поставить и пашни пахати, поля огородит, пожни и луги расчищати, и смолу курити, и лубья драти, как у прочих жилецких крестьян, и с живущие пашни государевы всякие волостные подати платити, и помещицкое всякое дело делати, и пашни на ней пахати, и денежной оброк, чем он изоброчит, платити, и со всякого хлеба изо ржи и из яри пятинное давати ежегод, и жити тихо и смирно, корчмы и блядни не держати, и никаким воровством не воровати, и с его поместной деревни, где он, князь-боярин Симеон, меня посадит, не сойти и не сбежати, а во крестьянство и в бобыльство ни на котору землю, ни за монастыри, ни за церкви, ни за помещики, никуда не переходити. А нечто яз, Васька, нарушу сие, и где меня князь-боярин Симеон с сею жилецкою записью сыщет, и яз, Васька, крепок ему во крестьянстве в его поместьи, на тое деревню, где он меня посадит, да ему ж взяти на меня заставы четыре рубли московских.
Выводков рассеянно слушал и сочно зевал. Подьячий передохнул и сунул ему в руку перо.
— Аминь!
— Аминь! — выплюнул сквозь зубы холоп и склонился над кабалою.
— Об этом месте крестом длань свою закрепи, — нетерпеливо притопнул подьячий.
— Мы и граматичному учению навычены, не токмо крестам!
И с огромным трудом Васька вывел:
Васька сын Григорьев Выводков рубленник.
Подьячий присвистнул от удивления:
«Разрази мя Илья-пророк, ежели видывал яз грамоте навыченных смердов!»
Он оттопырил тонкие губы и таинственно шепнул на ухо ухмыляющемуся кабальному:
— Уж доподлинно ль бобыль ты? Не из соглядатаев ли худородных?
Васька испуганно отступил.
— Живу, како дал Господь живота. Про свары господаревы не разумею и в языках не хожу. — И, стукнув себя в грудь кулаком:-А токмо, к жалости своей, опричь подписа, не навычен был тем юродивеньким.
Он прямо поглядел в недоверчивые щёлочки глаз подьячего.
— Живал яз однова в лесу с блаженным Иовушкой.
Подьячий сморщил открытый выпуклый лоб и шумно вздохнул.
— Обман ежели, — памятуй, не миновать тебе в железы обрядиться. За удур[6], не будь я Ивняк, у нас — во!
В избу вошёл надсмотрщик за работами.
— Кланяйся спекулатарю, — ткнул Ивняк Выводкова ногой и передал надсмотрщику кабальную запись.
— Рубленник тебе новый.
Выводков отвесил спекулатарю низкий поклон.
— Разумею и пашню пахати и срубы ставити.
— А и хоромины князь-боярам?
— На том и живу.
Ваську увели на постройку.
На обведённом тыном лугу рубленники ставили повалушу[7]. Глухой подклет уже был почти готов.
Староста долго опрашивал Выводкова, пока наконец задал ему несложный урок.
К полудню пришёл на постройку боярин. Работные людишки побросали топоры и, распростершись ниц, трижды стукнулись о землю лбами. Симеон хлестнул в воздухе плетью.
— Робить!
Васька первый вскочил. Князь с приятным изумлением поглядел на статного рубленника.
— Пядей[8]то сила в холопьих плечах! — распустил он в улыбку толстые губы и намотал на палец край волнистой каштановой бороды.
Спекулатарь приложился подобострастно к поле княжеского кафтана.
— По господарю и людишки. Аль вместно князь- боярину Симеону, опричь богатырей, иных холопей на двор свой вводить?
Польщённый князь самодовольно заложил руки в бока.
— Нынче гости ко мне пожалуют.
Он подошёл поближе к холопу и деловито оглядел его.
— За столом ходить в трапезной будешь. Пускай бояре поглазеют на богатырей моих!
И, подавив двумя пальцами в багровых жилках нос, прибавил, обтирая пухлые руки о полы кафтана:
— Волю яз зрети ныне в хороминах единых могутных холопей!
Сторож на вышке ударил в колокол. Ряполовский вгляделся в расползающуюся тягучей кашицей дорогу.
— Скачут, никак?
До слуха отчётливо доносилось чавкающее жевание копыт. За выгоном показались подпрыгивающие колымаги.
Князь развалистою походкою пошёл к крыльцу.