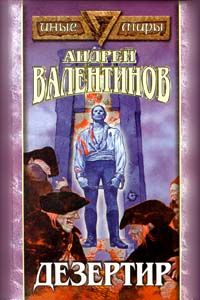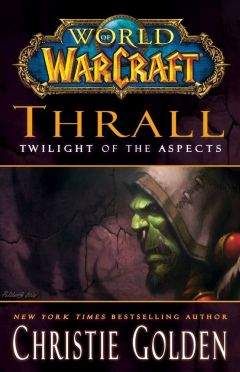Начало второго акта я помнил. Мертвый Ипполит недвижно застыл на смертном ложе, и так же недвижна фигура Арисии, припавшей к груди мертвеца. Слезы уже выплаканы, девушка замерла, не в силах вымолвить ни слова…
И вот снова Федра. Царице мало смерти Ипполита. Ее ненависть не угасала. Еще жива Арисия — из-за любви к ней молодой юноша отверг домогательства мачехи. И теперь Федра собирается рассказать ей все. Рассказ длится долго — но Арисия молчит. Царица удивлена, она начинается злиться, но девушка не произносит ни слова…
Внезапно я подметил одну странность. В первом акте я почти не прислушивался к словам, но теперь убедился, что текст, явно мне знакомый, стал каким-то другим. Наконец я понял. «Цари» и «царицы» исчезли. Вместо этого на сцене появились «градоправитель» и «градоправительница». Выходит, Республика, Единая и Неделимая, позаботилась обо всем, даже о «чистоте» либретто. Впрочем, опера не стала от этого хуже. Великое творение Рамо оставалось таким же прекрасным. Прекрасным — и страшным.
…Федра уходит — и Арисия встает. Руки воздеты к Небу, молчаливому Небу, допустившему преступление. Голос девушки звенит, моля о справедливости. Этого не должно быть! Это не должно было случиться…
Мне подумалось, что на этом лучше бы все и закончить. Все и так ясно — справедливости нет на земле, и едва ли она есть даже на Небе. Еврипид и Корнель написали о безвинной гибели одного молодого парня. Республика, Единая и Неделимая, губит таких парней «связками» — и Небо молчит…
Впрочем, Небо не молчит. Гремит гром, молнии прорезают сцену, и Великий Зевс изъясняет свою волю. Злодейка Федра будет покарана, а несчастный Ипполит — безвинная жертва преступной страсти — вновь возвращен к жизни. Появляется Deus ex machinae — Зевсов сын Асклепий — и волшебным жезлом, при касается к груди бездыханного Ипполита…
Музыка гремела, преступную Федру волокли в темницу, Тезей прозревал, а Арисия обнимала воскрешенного Ипполита. Хор пел о справедливости, о каре, которая неизбежно постигнет злодеев, а мне внезапно стало скучно. Так не бывает! Погибшие не возвращаются. Даже если они вновь появляются среди живых, они остаются мертвыми, и им ни к чему уже любовь и преданность. Да и не спешат боги восстанавливать справедливость. Греки знали это, в давнем мифе говорилось совсем о другом — Асклепий воскресил царевича против воли Зевса. И молния сожгла того, кто преступил закон Неба. Ипполит — живой ли, мертвый — исчез, погибла Федра, погиб Тезей. А несчастная Арисия — была ли она вообще?
На этот раз в кофейне «Прокоп» было людно. За столиками не оказалось свободных мест, и я с трудом протолкался к стойке. Хозяин, рассылавший «мальчиков» налево и направо, тут же заметил меня и ухмыльнулся:
— Рамо слушали, гражданин? Вам крепкий? Без сахара?
Память у него была неплохая.
— Без сахара, — согласился я. — Очень крепкий. Наследник достойного Прокопа кивнул, что-то шепнул очередному «мальчику» и вновь повернулся ко мне:
— Ну и как вам постановка?
— Градоправительница Федра хороша, — усмехнулся я. — А «Марсельеза» еще лучше.
— Сильно свистели?
— Не очень. Больше шикали.
— Ну, это ничего, — подытожил хозяин. — Да вы садитесь, гражданин! Вон, место освободилось!
Действительно, одно место за маленьким столиком у окна было свободно. Я поблагодарил и хотел последовать его совету, но хозяин предостерегающе поднял руку:
— Только вы с тем парнем… Что за столиком… Поосторожнее. Не в себе он.
Странно, тот, кто сидел у окна, никак не производил такого впечатления. Статный черноволосый парень в прекрасно сшитом сюртуке, пышный галстук завязан по последней моде.
— Шарль Вильбоа, — шепнул хозяин. — Журналист. Вы с ним не разговаривайте! У него три дня назад погибла невеста. Так что вы лучше…
Я кивнул. На душе было скверно. Еще одна смерть. Бедный гражданин Вильбоа!
Кофе оказался еще крепче, чем в прошлый раз, вдобавок настолько горячий, что приходилось пить мелкими глотками. Внезапно захотелось курить. Я достал папелитку и нерешительно поглядел на соседа:
— Разрешите?
Последовал кивок, и я с удовольствием закурил, стараясь не смотреть в сторону черноволосого парня.
— Вас тоже предупредили?
Голос гражданина Вильбоа был совершенно спокойным, но это спокойствие сразу же показалось каким-то ненастоящим, словно стеклянным.
Я не стал переспрашивать.
— Предупредили.
— Да, наш хозяин — чуткий человек, — по неподвижному бледному лицу мелькнула горькая усмешка — Лучше бы молчал! Мы бы тогда могли побеседовать с вами о том, что граждане актеры сотворили с Рамо, и почему плох второй акт. Вы бы не чувствовали неловкости, а я… Я мог бы просто поговорить.
Он хотел ненадолго забыться. Нет, не забыться — просто отвлечься.
— А вы говорите, сударь! Если хотите, можно и о Рамо…
Он покачал головой, явно пропустив мимо ушей контрреволюционное «сударь».
— Рамо солгал. Вернее, не он, а господин Корнель. Мертвых не вернешь…
Оставалось согласиться, но я ограничился коротким кивком.
— Впрочем, в нынешнем Париже даже Асклепий не смог бы помочь. Она погибла на гильотине…
Я понял. Впрочем, о чем-то подобном я догадывался с самого начала.
— А ведь она была просто актрисой!
— А Мария-Антуанетта была просто Королевой Франции! — не выдержал я.
Гражданин Вильбоа чуть заметно прищурился, его большие, глубоко посаженные глаза потемнели, став совсем черными.
— Вы правы… Мария-Антуанетта была просто Королевой. А Мишель — просто актрисой Королевского театра, не пожелавшей перейти на сторону гражданина Тальма. Вы знаете, что такое «черная эскадра»?
Этого я не знал, но гражданин Вильбоа не стал пояснять. Впрочем, я и так помнил. Актеры бывшего Королевского театра отправлены в тюрьму Маделонет. Актрисе, которую звали Мишель, повезло еще меньше.
— Вот, — на стол лег небольшой медальон. — Ее портрет. Извините, всем показываю. Не знаю, почему…
Я нерешительно взял медальон в руки. Почему-то мне очень не хотелось его открывать. Но я понимал этого несчастного парня.
…Актриса по имени Мишель улыбалась мне с маленькой, прекрасно выписанной миниатюры. Высокая прическа украшена трехцветной лентой — очевидно, портрет выполнен совсем недавно. Я взглянул на молодое, беззаботное лицо, и вдруг мне почудилось — с портретом что-то не так. Да, определенно не так! Художник о чем-то забыл…
— У нее на лице была родинка, — вырвалось у меня. — На левой щеке!
Шарль Вильбоа равнодушно кивнул:
— Да. Родинка ее ничуть не портила, но художник рассудил иначе… Вы видели ее спектакли?