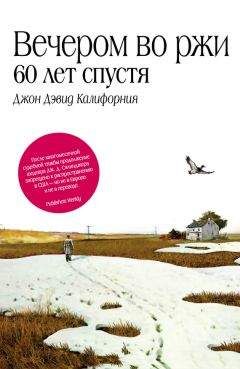Подозреваю, что она может оказаться его фантазией – творением творения, так сказать, – или же некой версией реальности. Но тут, конечно, возникает коронный вопрос: может ли она в принципе быть настоящей, если он – вымышлен? Любое общение исключено; более того – невозможно. Все они вышли вот отсюда, из кончиков этих пальцев. Кончики пальцев нынче меня не беспокоят, они загрубели, потеряли чувствительность, зато спина, что ни день, к вечеру ноет. Работа, мягко говоря, нудная, меня с нею примиряет только воображение. Когда я даю волю воображению, оно превращает меня в рыцаря; как ни смешно, это правда. Я – рыцарь в сверкающих доспехах, стою на темном мосту и прицельно бросаю массивные буквы размером с кулак, зазубренные и острые, как лезвия. Бросаю их одну за другой, целясь в силы зла, и до рассвета не знаю отдыха.
Борюсь, борюсь, и подталкиваю локтем, и направляю ее через порог.
Поворачиваюсь к ней лицом только тогда, когда уже распахнул дверь, но еще держусь за дверную ручку.
Спасибо тебе, Чарли, говорю я ей, спасибо за все.
Чарли поворачивается, смотрит мне в глаза, и мы оба замираем, но я сдаюсь первым и слегка склоняю голову.
В гостиничном номере сразу падаю на кровать, а Чарли устраивается в кресле у окна. Просыпаюсь я уже за полдень, а она сидит на том же месте и читает. Понятия не имею, откуда взялся этот томик, у меня его не было, а вот поди ж ты – сидит и читает. Шлепаю в ванную, чтобы ополоснуть лицо, и мало-помалу начинаю приходить в себя. Меня больше не знобит; смотрю в зеркало и вижу, что цвет лица стал вполне сносным. По контрасту с белой рубашкой физиономия кажется чуть ли не загорелой. Старушка неплохо потрудилась – на пользу нам обоим.
В ресторане, что на первом этаже, заказываю себе большой клубный сэндвич, а Чарли предпочитает креветки с соусом.
Здесь шикарно, мистер К., вся обслуга в форму одета.
Ждем, когда нам принесут напитки, а она тем временем крутит головой, чтобы ничего не упустить.
У них, я подумала, и шеф-повар в крахмальном колпаке.
Волосы у нее черные как смоль и совершенно прямые, подстрижены ровно, челка до бровей, как у слуги-китайчонка. Сейчас она стала более раскованной по сравнению с тем, какой мне запомнилась.
Посетители ресторана, вероятно, считают, что у нас семейная встреча.
Заговаривая, она щурится:
Дедушка с приемной внучкой, – и посмеивается.
Оглядываюсь по сторонам – и не припоминаю, чтобы я здесь бывал. В такое время дня в ресторане немноголюдно: у входа расположились старичок со старушкой, прильнувшие друг к другу, как сиамские близнецы; за другим столиком спиной к нам сидит одинокий мужчина – лица его не вижу. Он нависает над тарелкой и энергично расправляется с заказанным блюдом. Я и раньше знал (разумеется, знал, просто сейчас это высветилось ярче, нежели в прошлом), что каждый из окружающих – это целая жизнь. Родные, близкие, работа, поездки, вспоминания, старые хижины, рыболовные снасти, натертый палец, мозоли, надежды и сожаления. Хочу с ней поделиться своими мыслями, но не знаю, с чего начать. Даже объяснять, почему я оказался в воде, откуда она меня вытащила, не имеет смысла. Тут нам приносят закуски, и необходимость что-то говорить отпадает сама собой.
Чарли сидит напротив и смотрит на меня. Я беру сэндвич обеими руками, откусываю. Она совсем не такая, как в школьные годы, даже не такая, как сегодня утром. Захватывает креветку двумя пальчиками, обмакивает в соус и, запрокинув голову, отправляет в рот.
А вам известно, говорит она, с аппетитом уплетая креветки, что это заведение принадлежит Пакистану?
Пытаюсь вспомнить, в каком ряду она сидела и какую оценку получила по моему предмету, но безуспешно. А она как заведенная набивает рот креветками, снимая их с кромки бокала.
«Рузвельт», стопроцентно американский отель, вместе с гриль-баром «Рузвельт», говорит она, описывая в воздухе полукруг очередной креветкой, этот отель, где Гай Ломбардо впервые исполнил «Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней». Известно ли вам, что хозяева здесь – «Пакистанские международные авиалинии»?
Набираю в рот воды, но, похоже, воды мне уже хватило, более чем, и я выпускаю ее обратно в стакан.
Это неприлично, мистер К. Вы, конечно, извините, но это неприлично, говорит Чарли, отправляя в рот креветку.
Учеников у меня было много сотен. И все же хочу вспомнить, на какую тему она писала экзаменационное сочинение. Как-то раз, перед летними каникулами, она исчезла недели на три, а когда вернулась, семестр подходил к концу. Помню, я дал ей список дополнительных заданий на лето. Мог бы ее провалить, но решил этого не делать. Уж не помню, что именно я включил в тот список, помню только, что пошел ей навстречу, потому что она сильно похудела и осунулась.
То есть я что хочу сказать: если так и дальше будет продолжаться, до чего мы дойдем? Статую Свободы Аргентине продадим? – спрашивает она.
Я улыбаюсь, но не потому, что она задается такими вопросами или бросает в рот креветки, а потому, что заставляет меня кое-что вспомнить.
После еды предлагаю пройтись. Не знаю, есть ли у Чарли определенные планы на вечер, но в любом случае хорошо бы сейчас от нее отделаться. Идем с ней в западном направлении, бок о бок, но не разговариваем. Получается, что у нас обоих пропала охота беседовать, как только мы вышли на воздух. По сравнению со мной Чарли, естественно, коротышка; вероятно, из-за малого росточка у нее такой упрямый вид. Прежде не замечал у нее такого выражения. Идем куда глаза глядят, а я жду удобного момента, чтобы свернуть за угол и смыться. Подобно тому, как человек пускается во все тяжкие, чтобы избавиться от нелюбимой собаки, – завести подальше и бросить. На самом деле я против Чарли ничего не имею, просто у меня есть другие дела. А времени, как я понимаю, в обрез, так что надо спешить, а не то поздно будет.
Миновав пару кварталов, переходим через Пятую авеню и сворачиваем в южном направлении. По-прежнему не разговариваем, и где-то на углу Тридцать третьей улицы я останавливаюсь и задираю голову, чтобы рассмотреть мою старую настольную лампу. По прошествии такого долгого срока она все еще на прежнем месте. Остальные кабинеты теперь выглядят иначе – аккуратные, что ли, не захламленные. Воображаю, будто это я сверху разглядываю самого себя, стоящего на тротуаре, – ведь сколько раз я подходил к этому окну и смотрел вниз. Даже слышу потрескивание допотопного обогревателя, который включался зимой. Было время – я знал каждое пятнышко, где отслоилась краска, и каждый шуруп на фасаде напротив, знал наперечет все рубашки в гардеробе жильца с четвертого этажа и узор перьев каждого голубя из тех, что облюбовали конек крыши.