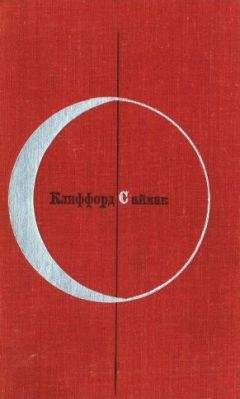сложное понятие можно перевести как антиэмансипированость (ведь эмансипация —
суть бесплодная попытка женщин превратиться в мужчин). Наоборот, женственность
не носит брюки, отращивает длинные волосы и не стремится сделать карьеру, она —
наивна и беззащитна. Часто говорят, что женская эмансипация — неизбежное
следствие "измельчания" мужчин. Отчасти согласен, но все же это встречные
потоки. Если девушка владеет карате, то всякое желание защищать ее отпадает
напрочь. Заокеанские феминистки (и феминисты!) бубнят о комплексе "единицы" у
мужчин рядом с "вечным нолем" женщин. А что в этом странного или страшного?! Это
вполне соответствует двоичному коду, открытому гениальным германцем, истинным
арийцем Готфридом Ляйбницем. Типичная диссидентская штучка — критиковать законы
природы.
По натуре я романтик. То, что многие мои ровесники узнавали на улице, я знал из
литературы, живописи и музыки, естественно в моей интерпретации. Мое восхищение
женщиной, оформившееся в сколько-нибудь определенное чувство годам к
тринадцати-четырнадцати, было восхищением женственностью. Меня не интересовали
девушки, к которым относится сонет Петрарки "Есть существа с таким надменным
взором". Нет, меня привлекали несовершеннолетние существа, чья юность не
исчезала десятилетиями. Не так давно, изучая творчество русского
писателя-эмигранта Владимира Набокова, подметил у него те же склонности. Еще в
5-6 классах школы у нас сформировалась компания (на ее основе я и создавал
вышеназванную "партию"), и девушки, дружившие с нами, по какому-то негласному
правилу вполне соответствовали такому фюрнаме. Зимы сменялись веснами, у нас
ломались голоса, мы дарили друг другу на день рождения электробритвы и
"серьезные" книги. Менялись и наши девушки, все более и более удаляюсь от столь
милого феминизму детского равенства. Я часто влюблялся, но, как правило,
безуспешно, хотя сейчас, в начале моей семейной жизни, годы юности
представляются мне вовсе не такими бесплодными, как могло казаться там, на месте
действия.
Представьте себе сияющий фюрерсветер, эдак в конце мая, когда китель школьной
формы выглядит сибирской шубой, а идущие к концу занятия в школе представляются
лишь досадной помехой игре в теннис, перемигиванию с одноклассницами и
наполеоновским планам в политике. Через открытое окно в жаркий класс доносится
пахучее поветрие вскопанной парной земли, пышной травы и специфический запах
зацветающего шиповника. Макс Геллер — единственный еврей на нашем пиру богов — с
грустью рассматривает девственнообнаженные (отличный германизм!) плечики
стройной Инны, которая, едва вслушиваясь в монотонно-бубнящую речь преподавателя
об употреблении точки с запятой в нераспространенных предложениях, шушукает с
Галинкой под прикрытием наших с моим соседом по парте Колей широких спин. А май
за окнами звенит трамвайным лязгом, и мечта поэтов о вечной юности не кажется
такой уж несбыточной.
А потом, когда вечер опускается на тихую улочку Героев Халхин-Гола, мы, юные и
отыгравшие несколько партий в бильярд под акомпанимент песен Карела Готта
острословы и мечтатели, отправляемся к Галинке — дегустировать только что
приготовленный ею торт со взбитыми сливками. Синь белой ночи застает меня уже
дома перед телевизором: идет фильм по мотивам геббельсовского романа "Микаэль" о
германской помощи в индустриализации СССР, а из другой комнаты доносится
разговор моей мамы по телефону об экзаменационных билетах для восьмиклассников.
А безмятежная юность кажется бесконечной.
В детстве я мечтал быть военным, а несколько позже — офицером госбезопасности.
Пятнадцать лет спустя мечты мои самым неожиданным образом реализовались: я
подыскал себе преподавание в училище МГБ, что забирает у меня четыре дня в
неделю и приносит две сотни рублей в месяц. Я нашел занятие, полностью
удовлетворяющее моим вкусам: теперь я мог влиять на общественное мнение пятисот
молодых людей (естественно, в рамках политической линии партии в наробразе),
обязанных по уставу меня выслушивать и, главное, запоминать то, что я говорю. Я
люблю разрядить "академическую" атмосферу лекции каким-нибудь анекдотом:
например, о кинике, который реагировал на обидчика не более, чем на лягнувшего
его осла, о взаимоотношениях Гегеля и Шопенгауэра, о чернильнице Лютера и т. д.
Меня обмундировали в цвет голубой ели, и накануне эффектного появления
Вальдемара-2 я получил чин младшего лейтенанта. Разумный консерватизм —
закономерный итог всех метаний юности, любых "отклонений" — подобен тому, как
Ванька-встанька неизбежно после многочисленных, как выражается мой двойник,
альтернативных наклонов принимает единственно правильное вертикальное положение.
Мир мнения, это гетто интеллигенции, лейдеяшафтен и валеннен, ибо, к примеру,
мнение об обратной стороне Луны — до известного момента! — каждый житель Земли
мог иметь свое. Но когда вид обратной стороны Луны благодаря успехам науки и
техники из области гаданий перешел в область ясного научного знания, всякий
"плюрализм" по этому вопросу нелеп. Истинный консерватизм приветствует науку,
ибо она осеняет все вещи и явления аурой истинности или ложности в последней
инстанции. Единица — ноль! — совершенно прав Маяковский; мы стоим на плечах
наших предков, стоит нам оступиться, и "распалась веков связующая нить". Этого
никогда не понять суицидным либералам, для которых торжество их сумасбродных
идей куда важнее реального народного блага, и которые, как говорится, готовы
судить народ за антинародную политику. Ужасные рассказы моего двойника
окончательно убедили меня в этом. Представляю его радость, когда он попал сюда.
Его хныканье, конечно, можно понять: в мановение ока, как говорят немцы,
оказаться в чужом мире, под чужим небом, оставив там — у себя — родных и
близких; мы — не роботы, чтобы переносить такое без стона. Но, с другой стороны,
теплый прием здесь и участие в его судьбе стольких людей должны убедить его в
преимуществе нашего общественного строя и общественных отношений, да и сам он
рассказывал, что там у них ностальгии по советским временам предаются девять из
десяти. Не скрою, что в его нынешнем положении я принимал не последнее участие: