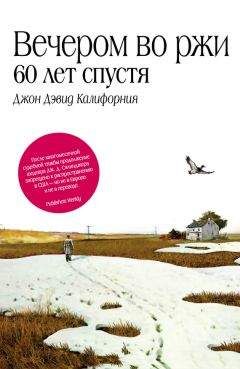Вот так они в один прекрасный день сожрут весь мир, говорю я, а Чарли протягивает руку, чтобы убрать свой черный волос, прилипший к моей губе.
Голова еще слегка кружится, поэтому мы берем такси и едем на Юнион-сквер. Чарли сидит рядом со мной, положив голову мне на плечо; я не возражаю. Не возражаю по той причине, что ей так удобно и спокойно, а еще потому, что у меня нет сил спорить.
Глаза у нее закрыты; в какой-то момент она сладко зевает – и я вдруг предлагаю сходить в кино.
Выходим у оживленного перекрестка Бродвея и Юнион-сквер. Там многотысячные толпы; с уличного лотка продают хот-доги, и подкопченный запах плывет нам навстречу. В каком-то магазине грохочет музыка, от дыма у меня щиплет глаза, ни черта не вижу. Опираясь Чарли на плечо, иду за ней, и очень скоро мы сворачиваем с тротуара в какое-то заведение. На ходу чувствую, как у нее под кожей, у меня под рукой, двигаются косточки.
В зале прохладно, и я ненадолго присаживаюсь, чтобы дождаться Чарли, которой нужно в туалет. Наконец-то это ей туда понадобилось, а не мне. Закрываю глаза и чувствую на себе ее взгляд, уж не знаю откуда, но даже когда она уходит, я не двигаюсь с места. Внушаю себе: это потому, что я устал и глаза разъело, скоро пройдет. Наклоняюсь вперед, кладу лицо на ладони. Рядом – дверь, которая то и дело распахивается и закрывается; по ногам тянет сквозняком, ноздри щекочет дым. Кто-то проходит так близко, что задевает мне голову полой пальто; открываю глаза – и вижу своего сына.
Тут возвращается улыбающаяся Чарли. Вижу: радуется, что я не сбежал. А может, просто радуется – кто их разберет, этих девушек.
Давай вот на это сходим, предлагаю я и указываю на постер, висящий на стене прямо перед нами. «Тридцать девять ступеней». Римейк классического фильма Хичкока, поставленного где-то в тридцатые годы – точнее сказать не берусь.
Поднимаемся на эскалаторе до четвертого этажа, и теперь моя очередь идти в одно место. Вернувшись, застаю Чарли с огромным ведерком попкорна – и сам себе удивляюсь. В этот миг, если уж выбирать, я бы выбрал, чтобы она никуда не девалась. Сейчас я реально хочу посмотреть этот фильм вместе с ней.
К началу сеанса мы слегка опоздали; садимся у самого входа. Зал не заполнен даже наполовину, можно положить куртки на соседние кресла. Я ни словом не упоминаю своего сына; помалкиваю и о том, что уже смотрел этот фильм. Причем не один раз, потому что у Фиби это был любимый фильм. Только что закончилось представление в Лондонском мюзик-холле, где мистер Мемори демонстрирует свою феноменальную память. Грохочут выстрелы. Поворачиваюсь к Чарли; та забыла обо всем на свете, даже рот раскрыла. Когда начинается паника, главные герои находят друг друга в толпе. Возвращаются к нему в апартаменты, где она признается, что на самом деле она шпионка. В первоначальной версии цвет был как-то ярче, что ли, хотя изображение сейчас куда более четкое. У Чарли по лицу скользят тени, и у меня тоже – тень моего сына. Не в том ли коттедже, где мы проводили начало лета, Фиби рассказала моему сыну про этот фильм? Все, что будет, я знаю заранее.
Смотри, что сейчас будет, говорю я перед тем эпизодом, когда девушка получает удар кухонным ножом, а злодей, переодетый молочником, выбирается из квартиры, садится в поезд и едет в Шотландию.
Ш-ш-ш! – шикает на меня Чарли, но я-то вижу, что она не против.
Вот, смотри внимательно, говорю я ей перед тем, как в него выстрелит человек, у которого на пальце недостает одной фаланги.
Чарли отстраняет мое лицо и не отрываясь смотрит на экран. Ближе к концу, когда они снова приходят на выступление мистера Мемори, Чарли даже не отодвигается. Держит меня под руку и тыльной стороной ладошки касается моей груди.
На протяжении всей картины я стараюсь о нем не думать. Горжусь, но прогоняю от себя любые мысли. В конце концов наступает эпизод, когда тот парень кричит: «Что означают эти тридцать девять ступеней?» Фиби это произносила одними губами. Тогда мистер Мемори пускается в объяснения: «Тридцать девять ступеней – это шпионская сеть, которая работает по заданию Министерства иностранных дел…» – и тут кто-то в него стреляет.
Хотя финал и не составлял для меня тайны, в глубине души я все-таки надеялся на что-то другое. В глубине души я надеялся, что в прошлом кое-что изменилось.
Когда мы выходим из зала, на улице уже смеркается. Тротуары, как я вижу, мокрые от дождя. В лужах отражается неоновая реклама. Зрелище фантастическое: мы идем по тротуару, а огни скачут за нами по пятам. Строго говоря, это и есть фантазия, напоминаю я себе. У меня опять начались фантазии. Иначе – откуда бы в моей руке взяться этой ладошке? Лицо у меня горит, но ладошка еще горячее. Как будто я несу тлеющий уголек. Это продолжается и в такси. Мы смотрим в окно, каждый в свою сторону, и не произносим ни слова. Но перед входом в вестибюль заблаговременно отстраняемся.
Ночь – та же, что и прежде. В кресле, кутаясь в плед, сидит Чарли, а я лежу на спине в кровати. Сердце начинает бешено колотиться; сна ни в одном глазу.
Просыпаюсь – в кресле никого.
У кровати на полу оставлена записка, нацарапанная на вырванной книжной странице. Записка оканчивается словами: «Ждите меня там в девять».
Переворачиваю листок и вижу, что это не простая страница из какой-то книги, а последняя. То есть из какой конкретно книги – сказать не могу, текст мне незнаком, но есть в нем что-то финальное. Сказано – как отрезано, потому я так и решил.
Если не считать, что я спустился к завтраку, весь день провожу в четырех стенах. Обедать не иду, шатаюсь по своему номеру, от письменного стола к окну и обратно. От этого день получается длинным и в то же время коротким. В полдень ему конца-краю не видно, а когда на западе начинает кровоточить небо, мне уже кажется, что дня этого и вовсе не было. Провожаю взглядом солнце, смотрю, как оно обливается кровью и закипает. Когда округлые контуры бесследно исчезают, я возвращаюсь к столу и сажусь в кресло. Заношу перо над бумагой и раздумываю, о чем писать. В уме сто раз проговаривал, а на бумагу почему-то не ложится. В чем трудность – непонятно. Мы ведь не чужие. На миг закрываю глаза, чтобы оглянуться назад. Дорогая… Дорогая моя… Понимаю, столько лет прошло… Часто вспоминаю… Люблю тебя… Бросаю ручку и отталкиваю блокнот в сторону.
Рано еще, времени у меня полно, и тем не менее я встаю, беру шляпу и выхожу. Доезжаю до Двадцать четвертой улицы, а дальше иду на своих двоих до угла Сент-Маркс и Астор-плейс. Там прямо на тротуаре, прислонясь спиной к ограде, сидит какой-то субъект. Перед ним расстелено одеяло, на котором громоздятся стопки книг и старых виниловых пластинок, а под локтем у него расставлены в ряд картины. Бродяга, не иначе, потому как вид у него самый что ни на есть зачуханный. С ума сойти: бомж при искусстве. Он и сейчас что-то чиркает; наклоняюсь вбок и заглядываю в блокнот, пристроенный у него на колене. Вижу цветок вверх ногами. Кстати, на всех картинах тоже цветы, но этот особенный: у него чашечка похожа на сверкающее солнце. Этот субъект отрывается от своего блокнота, улыбается мне и приветствует молчаливым кивком. Я точно так же киваю в ответ – ни дать ни взять, старинные приятели. Это безмолвное признание пройденного пути; мысли о смерти как-то нас сближают.