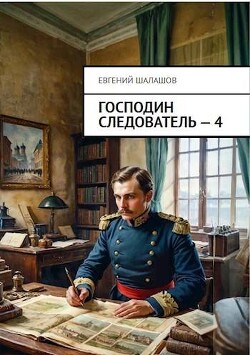покачал головой исправник. — Говорят, вся власть от бога, а мирского начальства им не надобно. Может, у них своя власть и есть — поп, какой-нибудь избранный, старец, но нам не расскажут. Пугали их в свое время, поэтому боятся лишнее рассказать и показать. Подати платят, новобранцев в армию отправляют, а большего от них никто и не требует. Власть, то есть мы с вами, даже глаза закрывает на то, что они государю-императору Александру Александровичу присягу не приносили. Да и как они ее приносить-то станут, если храмов нет? Живут — ну и пусть живут. Они нам не мешают, так и мы их не трогаем. И неприятностей от раскольников не бывает. Живут честно, своим трудом, по совести. Убийство, что нынче случилось — исключение, а не правило.
— А как же они так живут, в отрыве от мира? — хмыкнул я.
— Ну, не совсем в отрыве, — ответил Абрютин. — И со старшиной здешним общаются, и масло, как вы знаете, в город возят, и торговцев принимают. В Череповце среди купцов двоих раскольников знаю. Но в школу там, или к врачам, ни-ни.
— А как же прививки? Оспопрививание?
Абрютин с доктором переглянулись и рассмеялись. Василий Яковлевич кивнул лекарю — дескать, рассказывайте вы, и Федышинский начал рассказ:
— Оспопрививание для них отметка дьявола! Года четыре назад к нам в уезд целую команду врачей напустили прививки раскольникам делать — и нас всех задействовали, и учеников из фельдшерских школ прислали, и студентов. Кое-где удавалось привить, а кое-где полиции пришлось вмешиваться — едва ли не силой заставлять. Два месяца прошло, кампания закончилась, выяснилось, что самые лучшие показатели у учеников фельдшерской школы, которые в Мусорской волости прививки делали. А там у нас и Мусора, и Аксеново, и Романово — край, так сказать, самый дикий, где сплошные деревни староверов идут. А тут, какие-то фельдшерята, умудрились всех поголовно привить⁈ Год минул, не меньше, выяснилось, что тамошние раскольники с учениками школы договорились — станут платить по пятьдесят копеек с руки, ежели им прививки делать не станут, но в учетных журналах отметочку сделают — мол, все выполнено. А нам за каждую прививку из казны по тридцать копеек платили. Так что, неплохо заработали фельдшерята. Так что, беда с прививанием[1].
Спрашивать, понесли ли наказание «оспопрививальщики» за свою «деятельность» смысла не было. Поди, докажи. Это ведь придется у раскольников руки осматривать, проверять — остались или нет следы. Полиция не справится, придется солдат вызвать на подмогу. Проще плюнуть.
Нет, сколько интересного узнаешь, попав в свое прошлое! Может, стоит потом книгу написать? Вот, как с убийством разберусь, так и засяду.
— Фрол, ты молодец, что нужную информацию отыскал, — похвалил я фельдфебеля. — А тебя зачем посылали, помнишь?
— Зачем посылали? — нахмурился Егорушкин, пытаясь вспомнить задание. Вспомнив, радостно закивал: — Так точно. У писаря чулан есть, только холодный, в сенях. У остальных мужиков тоже.
Я только вздохнул. Ну где же теплые чуланы найти, если их нет? Не городские квартиры с центральным отоплением. У Тузова нашелся, так и то хорошо. А если нашей «оперативно-следственной» группе съехать из волостного правления, устроиться на квартиры к крестьянам, а сюда помещать арестантов — тоже не вариант. Нельзя фигурантов по одному делу вместе сажать. Ладно, поглядим. Если в теплой одежде, то можно и в холодный чулан посадить. Правда, надолго запирать нельзя. Придется главных подозреваемых сразу в Череповец везти, в камеру помещать. Там, по крайней мере, тепло. А самый главный подозреваемый у нас жена покойного Ларионова, у которой, как выяснилось, имелся мотив для убийства. Но это проверять нужно. Что ж, сейчас и проверим.
За подозреваемой отрядили старшего городового Смирнова. Неожиданно, вместе с ним решил пойти сам Абрютин.
— Надоело в четырех стенах сидеть, — сообщил исправник. — Заодно и на мужиков гляну.
Вот ведь, неугомонный. А мне, отчего-то, гулять по деревне не хотелось. Но на место, где совершено преступление, все равно придется идти. Но пока в лом. Впрочем, если глава полиции собрался отправиться за старушкой, надо его задействовать.
— Василий Яковлевич, не окажите ли мне услугу? — с деланно небрежным видом поинтересовался я. — Оч-чень буду признателен!
— А что такое? — слегка насторожился исправник.
— Вы, наверняка умеете схемы чертить?
— Учили когда-то, — пожал плечами господин исправник. — У нас ведь и топографическое дело изучалось, и картография. Положено офицерам уметь кроки́ составлять.
Значит, примерный чертеж местности правильно называть кроки́, с ударением на последний слог, а я всю жизнь считал, что крóки. Теперь буду знать.
— А не будет ли так любезен господин полковник составить для моего уголовного дела план лестницы, с которой навернулся наш… э-э усопший? — попросил я исправника, специально переводя его чин в армейское звание. — У меня хоть с рисунками, а хоть с чертежами не очень… Вот здесь нужна рука профессионала.
Врал, разумеется. Схему места происшествия я бы нарисовал — не экзамен в академию художеств сдаю, это рабочая схема, другое дело, что отставной офицер выполнит эту работу гораздо качественнее, чем гуманитарий. А главное — красивше. Наглядность — наше все! А припахать ближнего своего, считающегося другом — святое дело.
— Так я могу не схему, а настоящий чертеж сделать, — хмыкнул исправник. Деловито уточнил: — Вам точные размеры нужны или просто, на глазок прикинуть?
— Хватит и на глазок, — замахал я руками. — Чай, не машину строить станем. Мне надо, чтобы суд и присяжные поняли — откуда Ларионов падал и далеко ли летел.
— Так не вопрос, — хмыкнул исправник. — Чего не сделать ради уголовного дела да для хорошего человека? Там более, что почти все сени и лестницы похожи. Схожу, прикину, потом начертаю. Мне все равно делать нечего.
— Вот и отлично, — обрадовался я. Оказывается, я еще и доброе дело сделал — господину исправнику занятие для души нашел.
Потом, для очистки совести, нужно будет сходить в дом Ларионова, лично выяснить — откуда и куда падал человек, отметить эти места на схеме. А еще бы неплохо орудие убийства поискать, хотя, вроде бы, это уже и поздно. Если бы я отправился на труп сразу, тогда учинил бы обыск, а теперь? Стукнуть в нос Паисия можно было чем угодно — утюгом, камнем, каким-нибудь сельскохозяйственным инструментом. Орудие преступления за десять минувших дней можно было и выкинуть, и не один раз помыть.
Но