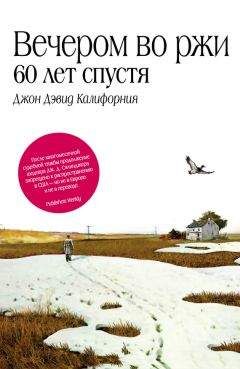Опять просыпаюсь – уже снег идет. И ко мне в номер залетает, даже ковер запорошило. За креслом намело небольшой сугроб. У меня жутко болит челюсть, не могу рот открыть, а вдобавок постоянно должен напрягать все мышцы, чтобы меня не подбрасывало от озноба. Лицо заливает пот, который стекает со лба и капает с подбородка. Моргаю – и вот я уже не в «Рузвельте», а в знойных и влажных джунглях. Гравюра на стене ожила: листья позеленели, мерно покачиваются из стороны в сторону, завораживают. Наблюдаю за их движениями, а сам чувствую, как у меня по венам разливается жар.
Просыпаюсь еще раз – зубы болят. Я привязан к плоту; единственное доступное мне движение – это движение глаз, а зубы болят как бешеные. Смотрю перед собой вниз – и что я вижу: на другом плоту сидит мой сын. Мы бесцельно дрейфуем в океане, а воды словно дышат: вверх-вниз. Он сидит по-турецки, одетый в свой детский костюмчик. И в рубашку с маленькими гоночными машинками, несущимися поперек груди, только она теперь ему тесна в плечах.
Я пытаюсь заговорить; хочу сказать: Здорово, сын, но рот не открывается.
Но беды большой нет. Он сам говорит, глядя на меня:
Ну, здравствуй, отец – и при этом даже не размыкает губы.
Океан вокруг нас все время в движении, но воду мне не видно. Делаю еще одну попытку приподнять голову, но меня в который раз одолевает кашель.
Тебе лучше не разговаривать, пап, говорит мой сын. Я тебя и так прекрасно слышу.
У него поверх волос – какое-то оранжевое свечение, отчего голова кажется больше, чем мне помнится. Я поднимаю мизинец, делаю ему знак, и он точно так же шевелит мизинцем мне в ответ. Потом откуда ни возьмись налетает туман, который окутывает все пространство между нами, так что теперь мне виден только его силуэт, высвеченный золотистым сиянием. На мгновение закрываю глаза, а открыл – ни плота, ни сына. Не хочу больше проваливаться в сон и сопротивляюсь всеми силами. У меня в номере зажигаются и стремительно кружатся звезды. Старательно навожу на них взгляд – и тут меня что-то жалит, да так, что из глаз брызнули слезы. Дрожу всем телом, вцепляюсь в доски плота, чтобы не упасть, и сквозь слезы вижу, что звезды обернулись уличными фонарями. И что же – на самом деле это я стою у окна, облокотившись на подоконник, а меня всего крутит, и пот льет ручьями. Когда стоишь на коленях, лихорадит меньше; подползаю к кровати, стягиваю одеяло на пол и заворачиваюсь в него, как в кокон. На одном виске вена раздулась до размеров змеи.
Это я и он. Я знаю, где мы находимся. Мы бывали здесь прежде. Бывали в этом кемпинге. Лето было долгим; оно уже подходит к концу. Другие люди мне незнакомы; между прочим, это место предназначено для нас двоих. Нет, все понятно, Беркширские горы не могут принадлежать только нам, но все эти люди – почему они здесь? К примеру, женщина с двумя детьми. Теперь я понял, кто они такие, но они сюда не вписываются. Они должны появиться позже. Как они оказались здесь в это время? Мы хотим тишины и покоя. Потому и приехали сюда, на край света. Проходим по кемпингу из конца в конец, просто для проверки, а они, естественно, не отстают ни на шаг.
По утрам, взяв из палатки рюкзаки, мы отправляемся в путь. Я беру с собой воду; он еще мал, мне по пояс. На тропе подбираем интересные находки и складываем в рюкзаки. По возвращении рассортируем. Я поднимаю с земли цветной камешек; он – большую сосновую шишку. Идем дальше. Под раскидистым кустом папоротника замечаю мертвого дятла.
Смотри, говорю – и показываю пальцем.
Он хотел продолбить дупло, а дерево оказалось ему не под силу – во всяком случае, такова наша версия. Кладем мертвую птицу в рюкзак, к цветному камешку и сосновой шишке. А они держатся за нами, в двух шагах. Ближе подходить не решаются. Так и крадутся на расстоянии всю дорогу до кемпинга.
Вытряхиваем из рюкзаков свои находки, разбираем, сопровождаем краткими записями. Для этих записей я как-то в выходной специально купил в книжном магазине на Пятьдесят второй улице журнал наблюдений. Когда мы готовим на огне жженку с воздушным рисом, они сидят по другую сторону костра. И ничего не готовят. Просто следят за нами – вот и все. Здесь им делать совершенно нечего. Мы не собираемся с ними разговаривать. Вот так и лето пролетает, слишком быстро, раз – и кончилось. Я засыпаю прямо у огня. От запаха смолы и жженки у меня пощипывает в носу.
Естественно, я доволен, но в то же время озадачен. Газеты как в рот воды набрали. Разъезды, встречи – я понимаю, да, такое возможно, но это – это неслыханно. Чтобы литературный персонаж расхворался? Это же абсурд. Но я на эту тему распинаться не собираюсь, увольте. Он сейчас совсем недалеко, и будь я более впечатлительным, мне бы показалось, что у меня слегка засосало под ложечкой. Но я отнесу это на счет несварения желудка.
Я опять на плоту, и теперь со мной моя сестренка Фиби. Сидит рядом, но смотрит в другую сторону. Что-то мне подсказывает, что не нужно ее сейчас тревожить. Ветром принесло туман, но к плоту он не подступает. Завис на краю мрака. Собираюсь ее окликнуть – может, она не заметила, что я тут лежу, но разум меня останавливает. Более того, он превращается в луч лазера, который пронизывает все вещи в пределах моей видимости. Впервые я вижу все вокруг с предельной ясностью.
Это какой-то чулан, где аккуратно составлены жестянки и коробки; у всего свое место. В этом чулане мне даже не приходится рыться на полках. Просто читаю наклейки – и отыскиваю нужное.
Не уходи, кричу я, но слишком поздно. Фиби уже в воде и медленно дрейфует прочь от плота.
Это закуток абсолютной честности, закуток, где в первом ряду стоят жестянки, про которые ты даже не знал, что они у тебя есть, даже не догадывался об их существовании. Жестянки, задвинутые когда-то в задний ряд, тоже здесь. Прямо как результаты бейсбольной команды «Нью-Йорк янкиз». Первая игра, вторая, третья – все по порядку. Фиби уплывает вдаль; пока еще я мог бы ее догнать, но вскоре такой возможности не будет. Она, между прочим, ни разу не обернулась. Ее длинные седые волосы в первую минуту стелются по воде, но вскоре намокают и тонут. А меня не покидает чувство, что тревожить ее нельзя. Заглядываю в нишу, что примерно на уровне моего сердца, и читаю наклейки. Вдали звучит труба – одинокий, глуховатый стон.
Туман сгущается и накрывает Фиби; последнее, что я вижу, – это ее волосы, сбившиеся вокруг головы, как водоросли.
Дверь чулана вдруг захлопывается, и меня затягивает куда-то вглубь, в черную дыру. В самую черную и самую глубокую. Мрак, чернее сырой нефти, застит мне глаза и уши, давит сверху. Глаза у меня, кажется, открыты; проверяю ощупью, но не вижу ни зги. Вижу только глубочайший мрак и чувствую, как пальцы давят на глазные яблоки.