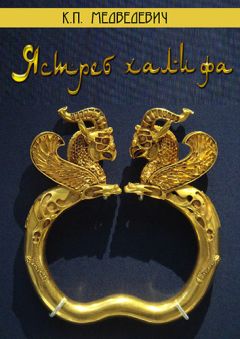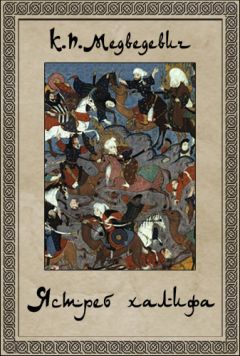Ознакомительная версия.
— В Куртубу ведут восемь ворот, и над каждыми — печать Али. Господин и госпожа, конечно, найдут способ проскользнуть под защитной надписью, но площадь правосудия находится в верхнем городе, перед дворцом, за восьмыми воротами. Нам хорошо бы там появиться к третьему призыву на молитву. Завтра пятница, но эти грешники отказались соблюсти праздничный день и выказать милосердие.
— Почему ты нам помогаешь? — резко спросил Тарик.
— Аль-Джунайд — мой шейх. Я обязан ему послушанием.
— Почему ты нам помогаешь? — в голосе нерегиля зазвучала угроза.
— Шейх многому научил меня — и научит еще большему, если не погибнет от руки палача.
— Почему ты нам помогаешь? — Тарик положил руку на рукоять меча.
Дервиш вздохнул.
— Я же сказал. Они — грешники.
Женщина тихо выдохнула и чуть наклонилась вперед.
— Они — грешники, — мрачно повторил дервиш. — Грешники и потомки грешников. И убийц. Пока пролитая ими кровь вопиет к небесам, Ар-Русафа будет заливаться кровью.
— Так ты все знаешь, — прошелестела женщина.
— Да. Поэтому я проведу вас в город и покажу на людей, которые откроют вам двери хранилища рукописей Бени Умейя. Прошло триста лет, но мы найдем запись о том, где они похоронили твою сестру, о Тамийа-хима.
утро следующего дня
…За два квартала перед дервишем уже бежала босоногая оборванная толпа мальчишек. Они размахивали руками и расталкивали прохожих:
— О верующие Куртубы! К нам идет Зу-н-Нун! К нам идет шейх Зу-н-Нун!
В толпе тут же начинали радостно вскрикивать и бросать под бегущие грязные ноги медные данги, а то и дирхемы — мальчишек следовало наградить за хорошую новость и почтить Всевышнего раздачей милостыни — кто знает, возможно, когда святой совершит зикр и разорвет свою хирку, и тебе перепадет заветный кусочек. Рассказывали, что тряпица от рубища Саубана ибн Ибрахима Зу-н-Нуна, дервиша, философа, алхимика и суфия, исцеляет от всех болезней и приносит богатство. Люди кричали:
— Куда, куда он идет? Куда направляются благословенные стопы учителя?
— На площадь перед Пятничной масджи-и-ид!!
И стайка драных птенцов подворотен неслась вперед, вперед, к воротам медины — радовать сердце верующих и извещать о пришедшей в город удаче.
А Зу-н-Нун шел не торопясь, отвечая на сыпавшиеся отовсюду приветствия и благословения. Поднимая вверх руки и размахивая широкими белыми рукавами, он возглашал:
— О правоверные! Всякий, кто чтит пятницу и желает послушать пятничную проповедь, пусть идет за мной, идет след в след и никуда не сворачивает! О верующие Ар-Русафа! Сотворите дуа, не обрекайте себя на утрату сияющей свечи молитвы! Следуйте, о следуйте за мной все, кто слушает мой голос! Следуйте за мной все, кто идет к масджид, кто хочет услышать пятничную проповедь!
И так крича, он прошел под узкую арку ворот медины и, вступив в темный сырой коридор, ведущий сквозь толщу Журавлиной башни, он прошел его насквозь и вышел на залитую утренним солнцем улицу — вверх, вверх, к верхнему городу лежал его путь.
Люди, заслышав его призывы, ахали и качали головами: легко сказать, не сворачивать и идти прямо к масджид. Да, вот-вот должен прозвучать третий крик муаззина — и верующие, совершив положенные молитвы, должны услышать проповедь праздничного дня. Но сегодняшняя пятница была особенной: проповедь — неслыханное дело — велено было отложить. Совершив намаз у себя дома, верховный муфтий Куртубы желал отправиться не в масджид, чтобы там взойти на минбар и сказать верующим укрепляющие слова, — а на Большую базарную площадь перед дворцом у Факельной стены. Там еще со вчерашнего дня сооружены были два высоких деревянных помоста. Один — для Абд-аль-Вахида ибн Омара ибн Умейя и его ближайших родственников, а также кади Куртубы, верховного муфтия и самых уважаемых улемов Ар-Русафа. Этот помост покрыли коврами и разложили на нем шелковые подушки — и ночью поставили вокруг него стражу, дабы подлое ворье не растащило все это великолепие. Второй помост предназначался для еретика-зиндика, отступника от истинной веры, бунтовщика, мятежника и колдуна аль-Джунайда — и его не стали покрывать коврами. Сегодня утром истекали три дня, данные, согласно законам Али, преступнику на размышление и раскаяние. Однако глашатаи уже прокричали на каждой площади, что Джунайд не отрекся от своих заблуждений и предпочел смерть возвращению к истинной вере. Шептались, что Джунайд — шахид, невинный мученик, и его погубили не провинности, а зависть и злоба клеветников. Однако всякий, что-либо смысливший в этой жизни, уже купил место у окна одного из домов, выходящих на Большую базарную площадь. Ну или уже толкался вокруг помостов. Ну или готовился бежать туда со всех ног. На улицах кричали, что палач уже вышел и показывает удары мечом, какими положено сносить головы преступников, а его помощники уже устанавливают деревянные колоды, между которыми растянут для четвертования тело Джунайда.
А Зу-н-Нун, пританцовывая, поднимался по извилистым улицам — вверх, вверх, к узеньким воротам в сторожевой башне Факельной стены.
— За мной, все идите за мной! Пусть идет за мной тот, кто меня слушает! Кто желает услышать и увидеть пятничную проповедь, пусть идет за мной!
Дети кидали ему в подол хирки халву и финики, а Зу-н-Нун кружился, вставая на цыпочки босых пыльных ног, и во всю глотку декламировал:
— Я - суфий, а твое лицо — единственное среди всех красавиц,
Все знают, стар и млад, женщины и мужчины,
Что твои алые губы по сладости — халва,
А халву нужно дарить суфиям.
Между тем, в толпе, поднимающейся в верхний город вслед за кружащимся дервишем, шли два десятка феллахов в пыльной, заплатанной одежде сельских жителей. Впрочем, феллахов в толпе и без них было предостаточно — по веге давно разнеслись слухи о предстоящей казни колдуна и вероотступника. Но эти шли, касаясь друг друга, держась за руки и за полы плащей из грубой верблюжьей шерсти. Их женщины семенили охающей и ахающей стайкой грязных замоташек — так просвещенные горожанки называли своих сельских сестер по вере. В самом деле, химар уже давно следовало повязывать под подбородком — иначе какой смысл помадить губы? Деревенские увальни явно ошалели в огромном городе и боялись потеряться в ущельях улиц между двух, а то и трехэтажными домами.
Тем временем, двое оборванцев из этой жалкой толпы обменивались такими речами:
— А это что за благочестивая белиберда? — Тарег имел в виду стихи про халву, которые раз за разом распевал Зу-н-Нун. — Почему дервиш поет любовные стихи? Извращение за извращением… — сердито шипел нерегиль.
— Это не любовные стихи… ммм… в обычном понимании, — хихикнула идущая с ним бок о бок женщина и поправила ткань химара на носу.
— В смысле? — мрачно переспросил нерегиль.
— Стихи говорят о любви — но не к женщине, — платок заглушал хихиканье женщины, однако было понятно, что она веселилась от души. — Они говорят о любви ко Всевышнему.
Тарег охнул:
— Это не лезет ни в какие ворота! Скажи, что ты шутишь!
— Между прочим, эти стихи сочинил Джунайд, — продолжала веселиться Тамийа-хима.
— Прости, но я был о твоем супруге лучшего мнения, — отрезал нерегиль. — Уж он-то не должен был поддаваться на дурацкие суеверия и оскорблять Единого своими странными домогательствами.
— Мы пролили много крови в сражениях на остриях слов, и еще больше мы пролили чернил — в том числе и тогда, когда кидались друг в друга чернильницами, — фыркнула женщина. — Но увы: я могу дать Джунайду напиток лимпе и продлить его молодость, но не могу изменить его природы — он остается человеком и… ашшаритом.
И Тамийа-хима вздохнула с грустью — притворной или подлинной, осталось скрыто за тканью химара.
Тут шедшие перед ними Майеса и Ньярве остановились как вкопанные. Из темной арки ворот дохнуло сыростью и могильным холодом. Тарег поднял глаза: над невысоким, в десять зира, сводом, выбит был круглый медальон, разделенный письменами куфи на три лепестка — Али, Али, Али. Точно такой же, как на том входе. Нерегиля замутило — от нахлынувших воспоминаний и вскипевшей следом ярости. Сзади напирал народ.
Тарег тяжело задышал — как и остальные, он чувствовал преграду как упершуюся ему грудь ладонь. Майеса наклонила голову и застонала сквозь сжатые губы. И тут с другой стороны черного прохода, из залитого солнцем проема в его конце донеслось:
— О следующие за мной! Проходите же, идите за мною след в след, никуда не сворачивая!
Со свистом выпустив воздух сквозь стиснутые зубы, Тарег двинулся вперед. Майеса и Ньярве, шедшие впереди, зашипели, но шагнули в тень арки.
Не успели они, дрожащие и замерзшие как в зимний холод, выйти на солнце, как в небе над их головами поплыли пронзительные человеческие вопли. Со всех минаретов всех пятнадцати мечетей Куртубы понесся третий призыв муаззина. Пятнадцать голосов, сливаясь в нестройный отвратительный визгливый хор, завывали и повторяли — Имя за Именем. Тарега снова замутило. У Тамийа-хима пошла носом кровь — на ткани химара стало расплываться бурое пятно.
Ознакомительная версия.