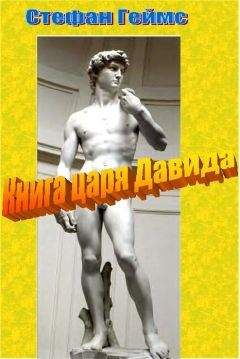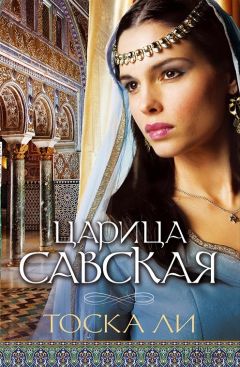– Стало быть, ты придерживаешься иного мнения?
– Господа члены комиссии преувеличивают значимость словес. – Ванея ехидно крякнул. – Если царю угодно оказаться сыном, допустим, непорочной девы и слетевшего с небес голубка, то я разошлю по городу шесть сотен моих хелефеев и фелефеев, а завтра весь Иерусалим начнет божиться, что так оно и есть.
Выразив свое одобрение, царь подпер голову рукой и спросил меня, каковы мои соображения на этот счет.
По моему разумению, сказал я, такой человек, как мудрейший из царей Соломон, столь щедро наделен множеством талантов и столь высоко чтим народом Израиля за свое миротворчество, что он сам по себе служит наилучшим свидетельством того, как любил Господь его родителей и как благоволил им.
– Поразительно! – воскликнул царь. – В сущности, то же самое всегда говорила мне мать. Соломон, сын мой, говорила она, отец твой согрешил пред Господом, позвав к себе бедную, беззащитную жену солдата, переспав с ней и убив ее мужа. Но никому не дано судить о путях Господних, который недаром ввел твоего отца в искушение, ибо я была тогда не такой старой и уродливой, а стройной и прелестной, кожа моя была нежнее лепестков розы шаронской; он увидел меня в лучах заходящего солнца, когда я мылась. И Господь покарал твоего отца, забрав несчастного младенца, твоего старшего брата, хотя был он еще ни в чем не повинен, ему исполнилось всего шесть недель. Но ты, Соломон, сын мой, родился уже после того, как отец твой искупил свою вину и был прощен, ибо сказано: око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь; поэтому ты не дитя смерти, а дитя жизни; и имя твое означает мир; ты благословен Господом и возлюблен им.2
Царь запнулся: видно, его разволновали слова матери и мысль о том, как ему повезло, что он родился вторым.
Потом он приказал:
– Почему бы вам не написать все сообразно с мудростью моей мамы? Или вы считаете себя умнее старой израильтянки, которая сделала сына царем?
Так все и осталось в Книге царя Давида, история любви Давида и Вирсавии в ней сохранена.
После заседания царь выказал нам свое расположение, пригласив всю комиссию, включая меня, разделить его трапезу. Тщеславные члены комиссии обрадовались, лишь Ванея попросил разрешения удалиться по неотложному делу, требовавшему его присутствия в отряде хелефеев и фелефеев.
Остальные обменялись многозначительными взглядами и направились в царскую обеденную залу, стены которой украшали изображения виноградных гроздьев, гранатов и всяческих изысканных яств. Царь усадил меня рядом, оторвал кусок курдючного сала и собственноручно сунул его мне в рот. Прожевав, я поблагодарил царя за милость и сказал:
– Гнев царя – как рев льва, а благоволение его – как роса на траву.
– Ого, недурно! – воскликнул Соломон; обернувшись к писцам Елихорефу и Ахии, он приказал: – Запишите-ка это изречение, да поточнее, ибо я задумал собрание наиболее примечательных свидетельств моей выдающейся мудрости.
Я сказал, что весьма польщен и, если мне еще придут в голову подобные изречения, обязательно сообщу их царю.
Соломона явно обрадовала возможность получить нечто задаром, поэтому он любезно поинтересовался ходом работы над Книгой царя Давида и спросил, какой темой мы займемся в ближайшее время.
– Восстанием Авессалома, – ответил я.
– Авессалома?.. – Похоже, это имя было ему неприятно, как, впрочем, все, что так или иначе связано с ниспровержением правителей. – С чего же ты хочешь начать?
Корни дерева сокрыты от глаз, подумалось мне, но они достигают вод. Однако мудрейшему из царей требовалось дать ответ, понятный царям.
– Пожалуй, лучше всего начать с Фамари, сестры Авессалома.
Царь взял овечьи глаза, макнул в перец, заставил меня открыть рот и сунул туда угощение. Я вновь поблагодарил его за милость, потом сказал:
– Но Фамарь похоронена в гробнице молчания; раб ваш даже не знает, кого расспросить о ней – главного евнуха или старшего похоронного церемониймейстера?
– Фамарь, – отозвался Соломон, – впала в безумие, поэтому семья отправила ее в храм Беф-Сана, подальше от Иерусалима; священники там ее кормят, моют и делают все прочее, что потребно.
Воцарилось молчание. Я вспомнил Фа-марь, до чего хороша была она когда-то в вышитых разноцветных одеждах, какие носят царские дочери, пока не вышли замуж.
– Боюсь, проку тебе от нее не будет, – сказал Соломон. – Люди Божий и знахари, лекари и провидцы уже пытались выспросить, что же произошло у нее с моим братом, но она лишь бормочет какую-то несуразицу.
– Ключ к пониманию в умении слушать, – осмелился заметить я, – ибо и дух Божий глаголет порой устами безумца.
Пророк Нафан заспорил с Садоком о безумии и пророчествах, оба ужасно разволновались. Царь прервал их:
– Каждый мнит, будто истинен только его путь, однако лишь Господь дарует уверенность сердцу.
Этими словами трапеза завершилась.
О Господи!
Иерусалим стал совсем не тот, что прежде.
Стража у ворот утроилась, на улицах гром колес и стук копыт, перед общественными зданиями и на важнейших перекрестках дежурят боевые колесницы.
У язычников подобная демонстрация военной силы вымела бы улицы начисто, а вот дети Израиля ведут себя иначе, они прямо-таки расцветают в смутные дни. Они горлопанят, о чем-то громко расспрашивают друг друга, суетятся, размахивают руками, лезут под копыта лошадей, толкутся возле хелефеев и фелефеев; тут же орудуют под шумок воришки и мазурики, они опрокидывают торговые лотки, убегают с товаром; люди Ваней шныряют в толпе, подслушивают, вынюхивают, высматривают, а потом – раз! – хватают кого-то под белые руки и куда-то волокут.
У всех на устах одно и то же имя – принц Адония, сын царя Давида; его, дескать, убили. Мол, если уж сын царя Давида прикончен в собственном доме и выброшен мертвым на улицу, будто дохлый пес, то никто теперь в Израиле не может быть спокоен за свою судьбу; говорят, на сей раз Ванея перестарался, царь Соломон такого своеволия не потерпит; некий священник, воздев руки к небу, завопил, что Адония сам навлек на себя подобную кару своим распутством и неисполнением заповедей Господних. Какой-то калека в рубище заорал, потрясая кулаками, что Ванея ничуть не лучше Адонии, все они блудодеи и лихоимцы, а пуще всех – царь Соломон; калеку тут же схватили и уволокли. Что-то будет дальше, с растущей тревогой думал я и даже вздрогнул, когда, меня вдруг окликнули.
Это оказались мои сыновья Сим и Селеф, они выскочили ко мне из толпы, размахивая грязной тряпицей и крича:
– Мы видели! Мы все видели!
Сим с налета ткнул мне тряпицу.
– Это его кровь. Селеф добавил:
– Там целая лужа.
Сим гордо объяснил:
– Я оторвал кусок от своей рубахи и обмакнул в его кровь, чтобы подарить тебе на память.
Царские яства, которыми меня потчевали при дворе, подступили мне к горлу. Зато Сим и Селеф были вне себя от возбуждения; они прослышали в школе, что против принца Адонии что-то затевается. С несколькими однокашниками они бросились к его дому, который был окружен какими-то людьми; те слонялись взад-вперед, ковыряли в зубах и иногда заглядывали во двор через щели ограды. Вскоре пробежали скороходы с белыми жезлами, они кричали: "Дорогу военачальнику Ванее, сыну Иодая!" Затем на боевой колеснице подъехал сам Ванея и прошел в дом.
– Причем, – сказал Сим, – был он очень мрачен.
Из дома донеслись громкие голоса, раздался ужасный крик, на улицу, шатаясь, вышел человек, весь в крови, с зияющей раной, и тут же рухнул наземь.
– Жуть! – воскликнул Селеф.
Люди, слонявшиеся у дома, хотели было унести труп, но тут к ним выскочила женщина, которая заголосила, взывая к Богу и ко всему народу Израиля. Она бросилась на Адонию, лежащего в луже собственной крови, принялась целовать его губы и единственный глаз (другой был выбит ударом меча), рвать на себе одежды. Наконец те люди схватили ее и утащили.
– Причем, – сказал Сим, – она казалась совсем спятившей.
Труп внесли обратно в дом. Через некоторое время оттуда вышел Ванея. Коротко переговорив со своими людьми, он сел в колесницу и уехал.
– Причем, – сказал Сим, – вид у него был такой, будто ничего особенного не произошло.
Я отослал Сима и Селефа домой, посоветовав им сегодня ни во что больше не вмешиваться.
"Братское утешительное слово – бальзам для сердца, зато совет мудреца способен исцелить".
Я вспомнил о Фануиле, сыне Муши, делопроизводителе третьего разряда из царского казначейства, который принял живое участие в моей судьбе, когда я только что прибыл в Иерусалим; тогда он отобедал со мной и, разговорившись от вина, поведал мне кое-какие секреты, известные лишь весьма узкому кругу.
В казначейство я зашел с заднего хода, небрежно махнув рукой охранникам, как это делают вельможи, уверенные, что их никто не посмеет остановить. В коридоре было тихо, как в склепе, ибо великие события возвышают народ, царские же слуги ожидают будущего с содроганием.