Буров в ответ с ухмылочкой кивнул, по новой приложился к пиву и неторопливо, вдумчиво, даже с этакой ленцой принялся собираться на выход. В мыслях его царила ясность, на сердце было легко — за час с небольшим, изображая марафонца, он уж всяко доберется до места. А по пути посмотрит на Неву, на спицу Петропавловки, на Стрелку, на Зимний, на Кунсткамеру, на мосты, на купол Исаакия под летним солнцем. На все это великолепие града Петрова. Петербург, Петроград, Ленинград. Здравствуй, город, знакомый до слез. Сколько, блин, не виделись-то? Пару сотен лет, не меньше.[247] А вокруг по-прежнему кипела жизнь. Греб рубли поганец-бальнеатор, перло пеной парное «Жигулевское», разрумянившиеся граждане, отбанившись снаружи, отмывали души злодейкой-сорокаградусной. Из настенного репродуктора, что у Бурова над головой, изливалась, куда там Ниагаре, песня:
Нам рано на покой,
И память не умрет,
Оркестр полковой
Вновь за сердце берет!
Прости, красавица, но жизнь пехотная
Вновь расставание сулит тебе!
Не зря начищена труба походная,
Такая музыка звучит у нас в судьбе!
Однако скоро поток иссяк и начался рассказ о белом медвежонке, из которого, как пить дать, ничего уже путного не вырастет. Экипаж атомного ледокола «Арктика» напоил его допьяна; спиртом со сгущенкой, лыка не вяжущего взял нa борт, а по прибытии в Ленинград подарил местному зоопарку. Новосел получил имя Миша, быстpo освоился в новых условиях и чувствует себя как дома…
«Ага, плещется в теплой луже, а не в Северном Ледовитом и жрет казенную пайку вместо свежей нерпы», — с горечью подумал Буров, встал и совсем уже было собрался идти, как вдруг стремительно раскрылась дверь и внутрь вломились колонной шестеро. Не с вениками и мочалками — с красными книженциями. Собственно, ксивой цвета месячных сразу помахал один, другие же засуетились, задергались, затопали ногами, закричали, бешено раздувая ноздри:
— А ну подъем! Сорок пять секунд! Всем одеваться и выходить строиться! Время пошло. Предъявить документы, вещи и карманы к осмотру! Шевелить грудями! Живо, живо, живо!
Чертом кинулись кто в душевые, кто в парную, кто в помоечный зал, а один, недобро ухмыляясь, подошел к зеленому от предчувствий бальнеатору:
— Валюту, золото, бриллианты и порожнюю тару на стол. Живо у меня и в полном объеме! Ну!
А из банных недр уже начали прибывать голые люди, слышались возня, грохотание шаек и прерывающиеся от ужаса голоса:
— Товарищи, ну не надо, товарищи… Ведь намылилися же только, товарищи… Окатиться дайте, окатиться… Ну пожалуйста, ну христа ради, разрешите хотя бы смыть шампунь. С ромашкой, мятой и витамином С. Жена подарила на двадцать третье февраля… Ну товарищи, что же вы делаете, товарищи…
А товарищи те, действуя ужасно ловко, уже строили у стенки народ, шмонали по карманам, изымали документы и экспроприировали экспроприатора-бальнеатора. Сразу чувствовались выучка, мастерство, профессионализм и устойчивые богатые традиции. В том плане, чтобы не было богатых…
Бурову вся эта суета крайне не понравилась. Во-первых, из-за досады на себя — и как же он это мог забыть, что попал во времена Юрия Долгорукого,[248] считающего, что дорога в коммунизм пролегает исключительно через концлагерь? Во-вторых, и это самое главное, можно было запросто опоздать на рандеву. И наконец, в-третьих, ну уж очень не любил, на дух не выносил Буров компанию глубокого бурения. Как и всякий боевой офицер — жандармов. Только-то и умеют, что надуваться спесью да хватать евреев, правдолюбцев и диссидентов. Мало он им морды бил тогда, на берегу моря, в «Занзибаре».[249] Не евреям, правдолюбцам и диссидентам — комитетским педерастам. А вот, явились, не запылились…
— Документы, — велели те, и Буров сразу же заулыбался, с великой радостью закивал, мастерски изображая доброго, преданного делу Ленина и партии идиота.
— Ну, слава труду, вот и родные органы. Приветствую, аплодирую и вверяюсь, потому как одобряю. А документов нет, вот только что умыкнули. Все, все — и паспорт, и партбилет, и командировочное предписание. А также полушерстяную пару из ткани «Ударник», нейлоновую блузу и галстук в горошек. И еще сорок восемь рублей и двадцать восемь копеек, выданные мне вчера под отчет бухгалтерией нашего краснознаменного совхоза «Ленин с нами». Это же, товарищи, не баня, а бандитское гнездо, вертеп разврата, буржуазно идеологический омут! — Буров оглянулся, перешел на шепот, яростно вздохнул, глядя в чекистские глаза: — Товарищи, дорогие мои товарищи, это же рассадник контрреволюции в чистом виде. Как же я теперь буду платить мои партийные взносы, а?
Валять он дурака валял, а на душе на самом деле было нерадостно. Вот как установят товарищи, что не придурок он из орденоносного совхоза, а капитан спецназа Вася Буров, по идее находящийся сейчас где-то в Гондурасе, вот будет весело так уж весело. Жуткая потеха, на всю оставшуюся жизнь…
— Ладно, разберемся, становись в строй. В автобусе, чай, не замерзнешь. Да и ехать недалеко, — пожалели Бурова товарищи и громким командирским голосом поставили последний штрих: — Всем в колонне по одному выходить на улицу и грузиться в транспортное средство. Шаг влево, шаг вправо…
Ладно, в колонну по одному, благоухая мылом и пивом, двинули грузиться в автобус. Причем не строгим мужским коллективом — в приятной дамской компании: со стороны женского отделения бани вели колонной представительниц прекрасного пола. Каких-то встрепанных, нечесаных, в без любви надетых кофточках и платьицах. Многие дрожали, словно на морозе, терли глаза и пускали слезу. Слышались вздохи, всхлипывания, приглушенный шепот и стук каблучков. В общем и целом настроение было не очень, с легким паром, называется, черт его бы драл…
На улице оптимизма не прибавилось. И в прямом, и в переносном смысле атмосфера там была грозовой. В воздухе, тяжелом, словно в бане, не чувствовалось ни ветерка, парило немилосердно, как пить дать, собиралась гроза. А у входа в ту самую баню смердели автобусы — уж лучше не задумываться, какого маршрута, — стояли люди со стальными глазами, толпилась, правда чуть поодаль, любопытствующая общественность. Пахнущая не мылом и шампунем — потом, зато свободная и не построенная в колонну. Впрочем, это еще как посмотреть…
В общем, ехать по жаре на расправу Бурову не захотелось. А потому в транссредство он грузиться не стал — брякнул одного товарища мордой на асфальт, от души коленом в пах угостил другого да и рванул, не долго думая, через дорогу во двор — дай-то бог, чтобы двор этот оказался проходным. Чертом бросился в подворотню, вихрем занырнул под арку и с головой закутался в мрачную изнанку города — вонь, грязь, мусор, невывезенные баки, облупившиеся стены. А за стеной уже шумели страшно, топали ногами, кричали грозно, гневно, очень даже на повышенных тонах. Не понравилось, значит, рожей-то об асфальт…
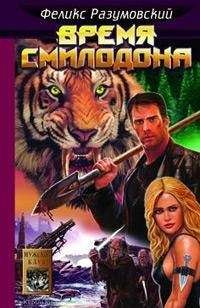
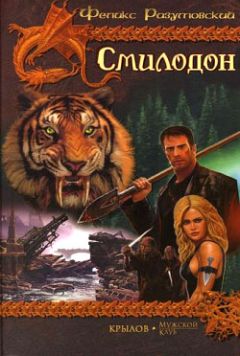
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)


