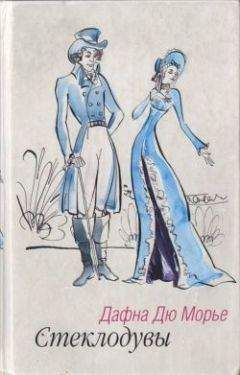Вдруг толпа снова всколыхнулась и притиснула нас к монастырю, и тут же раздался крик:
– Драгуны! Здесь драгуны!..
Послышался топот приближающихся всадников и резкий голос офицера, подающего команду. Через минуту драгуны были уже среди нас, все бросились врассыпную, и меня спасло только то, что между мной и приближающимися лошадьми совершенно случайно оказалась плотная фигура какого-то мужчины. Он каким-то образом оттеснил меня в безопасное место, но я почувствовала запах лошадиного пота, видела поднятую саблю драгуна, надвигавшегося на людей, а женщина, которая только что выкрикивала какие-то угрозы, упала на землю вниз лицом. Я никогда не забуду, как дико она закричала, как пронзительно заржала лошадь, поднявшись на дыбы, и как потом копыта опустились ей на голову.
Люди расступились, оставив драгун в середине, и я увидела у себя на платье кровь, кровь этой несчастной. Я пошла, с трудом передвигая ноги, плохо соображая, куда иду, к дверям дома Эдме, совсем рядом с аббатством, постучала и не получила никакого ответа. Я продолжала стучать, звать и плакать, и, наконец, наверху, в верхнем этаже открылось окно и показалось лицо мужчины, белое от страха. Он смотрел на меня, не узнавая. Это был мой зять, мсбе Помар, он сразу же снова закрыл окно, оставив меня на произвол судьбы.
Вопли толпы, крики драгун, звон у меня в ушах – все это слилось в единый звук, а потом вдруг наступила темнота, и я упала на пороге дома Эдме, даже не почувствовав, как спустя какое-то время чьи-то руки подняли меня и внесли в дом.
Открыв глаза, я обнаружила, что лежу на узкой кровати в маленькой гостиной – я узнала, это была гостиная сестры, – а перед кроватью стоит на коленях Эдме. Вид у нее был престранный: платье покрыто пылью и разорвано, лицо грязное, а волосы растрепаны; но еще более странным было то, что через плечо у нее была повязана трехцветная лента. Интуиция подсказала мне, что это означает: она тоже была в толпе, только не просто как посторонний свидетель… Я закрыла глаза.
– Да, это правда, – сказала Эдме, словно прочитав мои мысли. – Я была там, я была одной из них. Ты этого не поймешь, не поймешь этого порыва. Ты не патриотка.
Я не понимала ничего, кроме того, что я женщина, которой скоро рожать, что я ношу ребенка, и он может родиться мертвым, как ребенок Кэти, и что я сама едва избежала смерти, потому что попала в самую гущу орущей толпы, которая сама не понимает, что и зачем она кричит.
– Твой муж, Эдме, – сказала я, – это о нем все кричат?
Она презрительно рассмеялась.
– Он думает, что о нем, – ответила она. – Потому он и заперся наверху и не хотел тебя впускать. Слава Богу, что я нашла тебя и заставила его спуститься и помочь мне внести тебя в дом. Но теперь уже конец. У нас с ним все кончено.
– Что ты хочешь этим сказать?
Она поднялась с колен и стояла в изножье кровати, скрестив на груди руки, и я подумала, что она вдруг из девушки превратилась во взрослую женщину, женщину, которая считает себя вправе судить своего мужа, хотя он старше ее на двадцать пять лет.
– У меня есть доказательства – в последние месяцы я окончательно в этом убедилась, – что он составил себе состояние, присваивая определенный процент пошлин и налогов. Год тому назад это было мне безразлично, но теперь – нет. За последние три месяца мир изменился. Я не хочу, чтобы на меня показывали пальцем как на жену сборщика налогов. Вот почему я была с ними. Я возвращалась домой и попала в толпу, не могла выбраться. И я этому рада, мое место с ними, с народом, а не здесь, в этом доме, где живут чьей-то милостью и под чьим-то покровительством.
Она с отвращением огляделась вокруг, и я задала себе вопрос: чем в большей степени вызвано это отвращение, порывом патриотизма или же тем, что ее муж – старик.
– А что было бы, если б они сломали дверь и ворвались в дом? – спросила я. – Что бы ты тогда стала делать?
Она уклонилась от ответа, совершенно так же, как это сделал бы Робер.
– Толпа, и я вместе с ней, хотели попасть в аббатство, – ответила она. – Разве ты не слышала, как выкрикивали имя Бенара?
– Бенара? – повторила я.
– Кюре из Ноана, это приход возле Баллона, где вчера прятались эти скупщики зерна, – объяснила она. – Ты, наверное, слышала, что их убили впрочем, так им и надо. Этот кюре, который вместе с ними обманывал людей, узнав, что случилось в Кюро и Монтессоном, бежал сюда, к своим друзьям монахам. Ну что же, сегодня драгуны спасли ему жизнь, но мы до него еще доберемся.
Год тому назад Эдме, моя легкомысленная, хотя и ученая сестричка, была невестой, такой же, как и я, и ее голова была занята исключительно приданым и тем, как она будет выглядеть в обществе почтенных буржуа. А теперь она была революционеркой, еще более ярой, чем Пьер, и собиралась уйти от мужа из-за того, что не одобряла его занятия и желала смерти сельскому священнику, с которым даже не была знакома…
Внезапно на ее лице появилось озабоченное выражение, и она подозрительно взглянула на меня.
– Я еще не спросила, что ты делаешь в Ле-Мане, – сказала она.
Я коротко рассказала ей о том, что в прошлую субботу у нас появились Робер с Жаком, что мы ездили в Сен-Кристоф, а сейчас живем у Пьера, ожидая возможности вернуться в Шен-Бидо. Лицо Эдме прояснилось.
– Начиная с четырнадцатого июля ни о ком нельзя сказать наверняка, патриот он или шпион, – сказала она. – Даже родственники, члены одной и той же семьи, лгут друг другу. Я рада, что Робер – с нами; из того, что было известно о его жизни в Париже, можно было сделать и другое, противоположное заключение. Как хорошо, что за Мишеля и твоего мужа можно не беспокоиться. После вчерашнего дня ни того, ни другого нельзя обвинить в том, что они предатели нации.
Я оставалась в постели, почувствовав вдруг, как ужасно устала и измучилась, и едва слышала, что она говорит. Вскоре раздался стук в дверь. Это пришли Робер и Пьер, которым испуганные мальчики сообщили, что со мною могло случиться. Муж Эдме оставался наверху, и хотя я слышала, как эти трое, шепотом переговариваясь между собой, несколько раз упоминали его имя, ни один из братьев не поднялся наверх, чтобы с ним поговорить.
На улице возле дома ожидал фиакр, и когда я достаточно оправилась и смогла двигаться, они помогли мне дойти до экипажа и мы поехали к Пьеру, потому что я предпочитала находиться там, несмотря на шум и беспорядок, а не здесь, у Эдме, где царила атмосфера злобы и подозрительности.
Братья не задавали мне никаких вопросов. Они так перепугались, представив себе, что со мной могло произойти в этой толпе, что решили не утомлять меня расспросами, и как только мы благополучно добрались до дома Пьера, я сразу же поднялась в детскую и легла.
Лежа в постели, я еще раз мысленно представила себе все жуткие события этого дня, то, как я чудом избежала смерти. Меня охватила острая тоска по своему дому, по мужу. Я гадала, дома ли Франсуа и Мишель или они в дозоре, и вдруг, словно молния, в мозгу сверкнули слова Эдме: "После вчерашнего никому не придет в голову упрекнуть их в предательстве".
Вчера, двадцать третьего июля, был тот самый день, когда в Баллоне были убиты серебряных дел мастер Кюро и его зять Монтессон, а тех, кого обвиняли в убийстве, если верить сообщениям, полученным в ратуше, науськивали бродяги из леса. Из какого леса? Тут только я вспомнила слух, один из многих, которые мы услышали в среду, в день нашего приезда, что бандитов разогнали, но что всю округу от Ферте-Бернара до Ле-Мана терроризируют мародеры из лесов Монмирайля.
Глава одиннадцатая
Робер отвез меня домой в воскресенье, двадцать шестого июля. Мы ехали через Кудресье, мимо нашего старого дома в Ла Пьере, а потом через леса Вибрейе, но на сей раз, хотя мы по дороге разговаривали со встречными людьми, бандитов никто не видел. Они исчезли; как нам говорили, они откатились дальше на юг, к Туру, или на запад, в сторону Ла Флеш и Анжера, предавая огню и разграблению все, что встречалось им на пути. Впрочем, никто не мог сказать наверняка, чьи земли пострадали, чей дом или имение были разграблены и уничтожены – все это были только слухи, слухи и слухи, так же, как и всегда.
Когда мы приехали в Шен-Бидо, там все было спокойно. Поселок имел заброшенный вид, словно во время нашего отсутствия завод вообще не работал. Трубы не дымили, склады и сараи были на запоре; окна господского дома были закрыты ставнями, там не было никаких признаков жизни. Мы обошли дом сзади и стали стучаться в дверь черного хода, и через некоторое время услышали, как в кухне открылись ставни, и в щелку выглянула мадам Верделе, бледная, как смерть. Увидев нас, она вскрикнула, подбежала к двери, открыла ее и бросилась мне на шею, заливаясь слезами.
– Они говорили, что вы больше не вернетесь, – рыдала она, схватив меня за руку и крепко сжимая ее. – Что вы останетесь у мадам в Сен-Кристофе, пока не прекратятся беспорядки, возможно, на несколько недель, до самых родов. Слава Пресвятой Деве и всем святым, что с вами все благополучно.