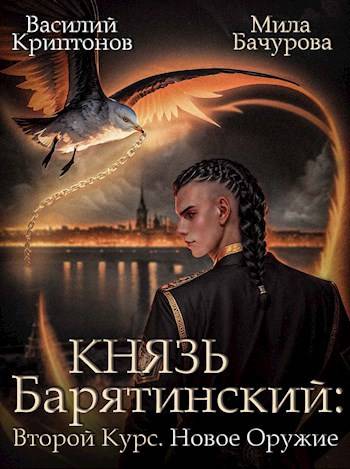я. — Поищи как следует — найдёшь. Ты ведь уже наверняка перерыл всё, что было в кабинете у Венедикта. Нашёл все его тайники. И не ври, что нет! Такая крыса, как ты, постоянно бегает по углам, дёргая носом, и вынюхивает. Вот и займись своим любимым делом. Найди то, что мне нужно. Ты меня понял?
— Да, сударь!
— Хорошо. Тогда второе. С этой минуты ты и думать забудешь о том, чтобы даже смотреть в сторону ректорства в Императорской академии.
Илларион окаменел.
Н-да, а требование-то, видать, похлеще, чем приказ отыскать в кабинете Венедикта бумаги. На бумаги покойного брата Иллариону класть три кучи. А ректорство, похоже, в своих влажных фантазиях не первый день лелеет.
— Я… — крякнул Илларион наконец. — Я не понимаю, о чём вы, сударь… Никогда ничего подобного и в мыслях…
— Надоел, — пожаловался я. И аккуратно съездил ему по уху. — Так понятно?
— Да, сударь, — отдышавшись, выдавил Илларион.
— Молодец. — Я похлопал Иллариона по щеке через мешок. — А теперь уйди с капота и начинай считать до ста. Вслух, громко! Снимешь мешок, когда закончишь. После каждого счёта добавляй: «Боже, царя храни!»
— Раз, боже, царя храни, — послушно пробормотал Илларион. — Два, боже, царя храни…
Убедившись, что он всё делает правильно, я махнул рукой — мол, расходимся — и поспешил к машине. Братва Федота свинтила так же быстро, освободив дорогу — по которой, по счастливому стечению обстоятельств, до сих пор никто не проехал.
Мы с Федотом сели на заднее сиденье. Прежде чем я успел захлопнуть дверь, мне на колени откуда ни возьмись плюхнулся Джонатан.
— И что ты ещё умеешь, чудо-птица? — спросил я, погладив чайку по голове.
Джонатан зажмурился от удовольствия.
Водитель развернул машину и поехал в сторону академии. Оставалась сущая безделица: вернуть меня в мой автомобиль, после чего уйти по одной из боковых дорог. Поскитаться где-нибудь, убить время, а потом вернуться в академию, как ни в чём не бывало.
Мне — вернуться. Федоту по плану полагалось раствориться в пространстве.
— А на что вам завод, ваше сиятельство? — спросил вдруг Федот. — Как-то я за всей этой суматохой забыл поинтересоваться…
Я снял с себя шляпу и нахлобучил ему на голову.
— Не мне, Федот, а тебе! Я ничем не могу владеть, ты же знаешь. Мой род — в Ближнем Кругу. И присматривать за заводом сам я не сумею. А вот ты поставишь своего человечка — и мы с тобой будем вместе радоваться жизни.
Федот вздохнул и поправил шляпу.
— Ей богу, ваше сиятельство, дивлюсь. И откуда вы такой взялись, в ваши-то семнадцать годков?
— Лучше тебе этого никогда не узнать, — искренне ответил я. — Здоровее будешь.
* * *
В ночь с субботы на воскресенье мне приснился метеорит. Я как будто бы снова стоял на краю воронки, а метеорит без слов пел мне с её дна. Пел и звал к себе.
Я не испытывал никакой тревоги, ни малейшей настороженности. Хотя теоретически просто обязан был насторожиться: меня звал к себе кусок металла, прилетевший из чёрт знает каких космических бездн.
«Я помогу тебе», — внезапно разобрал я слова в этом пении. Они повторялись снова и снова: «Я помогу тебе, помогу тебе, помогу».
Так же говорила та незнакомка из зеркала. А нет ли здесь какой-нибудь связи?..
Я спрыгнул в воронку, соскользнул по покатому краю, едва удержавшись на ногах. Здесь, внизу, пение стало громче и настойчивей. Оно обволакивало меня со всех сторон, пронизывало каждую клетку тела. «Я помогу тебе, помогу тебе, помогу…»
Опустившись на колени, я протянул руки к метеориту. Он начал светиться. Замерцал мягким бело-голубым светом. Как будто пытался проснуться после сотен лет сна, не отличимого от смерти.
В миг, когда мои пальцы поймали свет, я проснулся.
Серое утро. Воскресенье. За окном пробрасывает дождь.
В былые времена я в единственный выходной не залеживался — едва проснувшись, срывался куда-нибудь вершить дела. Но сейчас вдруг оказалось, что никаких дел, требующих моего немедленного участия, нет. Какая, в конце концов, разница, где не знать, как бороться с Тьмой: здесь или в любой другой точке мира. Тут я хотя бы нахожусь недалеко от цесаревича, рядом с которым прорывы наиболее вероятны.
Теоретически, можно, конечно, приехать к Клавдии. Обещал ведь. Да и жемчужину «почистить» давно пора, а то во мне уже от белого мага — одно название. Не то чтобы это было плохо…
Белая и чёрная магия различны по самой своей природе. Мне приходилось слышать от разных людей разные определения этой разницы. В итоге для себя я сформулировал её так: и то, и другое — сила, но чёрная магия — это сила вседозволенности, отсутствия контроля. Тогда как белая — сила осознанности и тотального самоконтроля. Человек по природе своей скорее чёрный маг — ему хочется всего, хочется сразу, и чтобы ничего за это не было. Но разум — это то, что делает нас людьми. И используя разум для самоконтроля, мы становимся белым магами.
Именно так однажды поступил мой учитель Платон. Будучи совершенно чёрным магом, он буквально за шкирку перетащил себя в белые. Чего ему это стоило — даже представить страшно. Я старался до подобного себя не доводить и время от времени читерил с энергией. Но, надо сказать, расшатать себя на эти манипуляции с каждым разом становилось всё труднее. Черномагическая природа так и нашёптывала в оба уха: «Расслабься, смирись, уступи, делай то, что хочется, и не оглядывайся ни на кого».
— Для начала надо позавтракать, — вслух сказал я. — Хорошее начало дня, не правда ли?
— Государю императору — ура! — донеслось сверху.
Я поднял взгляд и увидел Джонатана Ливингстона. Чайка важно прогуливалась по перегородке, отделяющей мою комнату от комнаты Мишеля.
С той стороны перегородки послышалось сонное ворчание. Мишель, похоже, не обрадовался такой побудке. Не привык, понимаешь ли, вставать с первыми чайками.
— Так, фамильяр. — Я выбрался из постели и открыл окно, впустив в комнату холодный осенний воздух. — Иди-ка погуляй. Налови себе рыбы или типа того. Если вдруг потребуешься — я тебя позову. Ну или сам прилетай, если почуешь неладное. Договорились?
Джонатан внимательно посмотрел на меня сверху вниз.
— Выходной, — объяснил я. — Воскресенье. А ты — вольная птица. Чего, спрашивается, сидеть в четырёх стенах, две из которых вообще даже не стены?
Если бы можно было говорить о выражении лица птицы, то лицо Джонатана прямо-таки вопрошало: «А ты точно никуда не вляпаешься без меня, хозяин?»
Я пожал плечами.
— Ничего обещать не могу. Сам видишь, какие дела творятся. Ну да и я не маленький. Год как-то выживал без тебя — глядишь, и ещё один день протяну.
Последний аргумент, кажется, сработал. Джонатан изящно спорхнул на подоконник. Взглянул на меня напоследок и, издав фирменный вопль, улетел.
— Ну вот и слава тебе, господи, — пробормотал я. — Одной головной болью меньше.
Запер окно. Хотел было оставить приоткрытым — в расчёте на возвращение Джонатана — но потом вспомнил, как этот хитрец пролетел сквозь лобовуху машины. Почему не поступил так, когда разыскивал меня ночью в академии, предпочтя вынести окно — загадка. Мотивация говорящих чаек — дело тонкое. Возможно, Джонатан просто хотел насолить наставникам…
Ладно. Захочет — вернётся, в общем. В крайнем случае клювом в окно постучит.
* * *
В столовой я оказался одним из первых. Набрал на поднос еды и отнёс его на стол. Сел и принялся насыщаться.
В прошлой жизни меня разносолами не баловали, и я привык относиться к еде как к топливу, необходимому для жизнедеятельности. В этой жизни всё обстояло иначе. Пожрать господа аристократы умели и любили. А поскольку учились в Императорской академии исключительно аристократические отпрыски, каждый приём пищи здесь был обставлен соответствующе.
В будние дни во время завтраков, обедов и ужинов мы приходили к уже накрытым столам. Белоснежные скатерти, крахмальные салфетки, серебро, фарфоровая посуда с золотым гербом академии и вышколенная прислуга. Этим ребятам я не уставал поражаться — они ухитрялись подавать тарелки с новыми блюдами так же ненавязчиво и почти незаметно, как убирать из-под носа пустые.
Таким богато обставленным приёмам пищи сопутствовали, разумеется, правила этикета и хорошие манеры. Ложка для супа, ложка для соуса, ложка для десерта, по три ножа и вилки на каждое блюдо, ещё миллион каких-то мелочей — в общем, целое искусство, которым мне пришлось овладеть в числе прочих.
А вот по воскресеньям я кайфовал. По воскресеньям мы вольны были приходить к завтраку не строго в семь тридцать, как полагалось в будни, а в любое время с восьми до десяти. Правда, обходились при этом