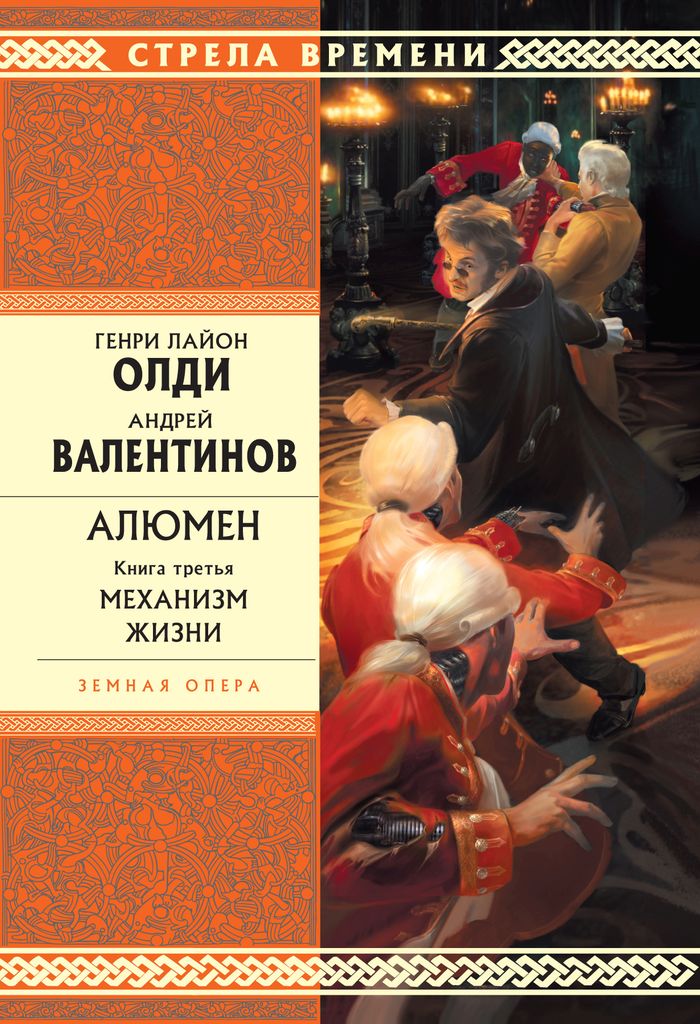class="p1">Был Иоганн фон Торвен — и весь вышел.
Или не весь?
— Я‑то думаю, про какого Торвена мне ваш Андерсен пишет? И такой Торвен, и этакий, и вся грудь в крестах, герой-разгерой. Матка Боска, хоть сразу в Рай на белом коне… Тебя же убили! Клаузевиц, фон-барон, мне лично отписал. А ты, оказывается, живой! — да еще и шпион в придачу…
Обнялись. Замерли на миг.
Закусил губу шпион Торвен. Не заплакать бы ненароком! Стареем, сантименты в горле комом…
— А ты, Станислас? На кого ты стал похож? На клячу, что под Дорогобужем околела? Пишет мне Андерсен: есть, мол, в Санкт-Петербурге книжный червячок, переводами на молочко с булкой зарабатывает. Перышком вместо сабли машешь? Стыдись, гусар!
— Эх!
В две глотки выдохнули, взялись за руки:
— Брошу, брошу эти страны и махну туды я,
Где у старых у панов жены молодые!..
Почтенный дворник, ветеран Бородино, глазам своим не поверил. Прямо у подъезда, каблуками в лужи!.. Цыгане, прости Господи. И не пьяные вроде.
А с виду — сурьезные господа!
— Сяду, сяду на коня, стремечко из стали:
Помни, помни, как меня звали-прозывали!
Как звали, как прозывали… Прапорщик Иоганн фон Торвен, немец. Корнет Станислас Пупек, поляк. Душный, пыльный август 1812‑го.
Ходи, пляши, разговаривай! За спиной — горит Смоленск. За спиной — пол-России под французом. Армия — последняя надежда — отступает, уходит в никуда. Терять нечего, кроме Москвы, так и ту Барклай-предатель сдать готов. Краткий привал, чудом найденная склянка зеленой— по кругу.
Пляши, Торвен! Пусть и немец-перец, да вместе с нами принимаешь и смерть, и позор. А что шваб ты тонконогий — не беда. У нас тут и немцы, и поляки, и татары с черкесами. Ковчег пана Ноя — от француза по хлябям драпаем, пяток не жалеем.
— Чтобы вы узнали истого поляка,
Пропою, танцуя, я вам краковяка!
Поляк — это корнет Пупек. Нет, не «фон». Ох уж эти швабы, без «фона» — не персона. Просто пан Пупек из Великих Гадок, что под Познанью. Пупок из Большой Гадости. Имей в виду, Торвен, это я сам про себя шутить могу. От иного услышу — саблей побрею.
— Шапку сдвинем набекрень, каблуком притопнем,
Если выпьем и станцуем — может, и не сдохнем!
Остановились, дух перевели.
Словно в зеркало смотрелся Торвен, глядя на давнего приятеля. Где очи яркие, где черный чуб, румяные щеки? Полно, да Станислас ли перед ним? Телом тощ, лицом тускл, усы — и те спрятались, под самые ноздри ушли.
И Пупек кривил бледные губы. Не выдержал — утер слезу рукавом:
— Ну тебя, Торвен! Разворошил душу, как конь — копну сена. Пошли, потопчем мостовую. Расскажешь, кто ты таков на деле, как немцем стал… И отчего все эти годы вестей о себе не подавал, холера швабская!
Бдительный дворник, провожая взглядом странных господ, прикидывал, что следует доложить о них квартальному. Ишь, удумали! Краковяк на Мойке чешут!
Не иначе, шпионы…
А начиналось все скучно. Поселившись в Демутовом трактире, Зануда велел Пин‑эр отдыхать, после чего бегло пролистал утренние «Le Miroir» и «Le Furet» — газеты, издававшиеся для иностранцев. Увы, «Le Miroir», аккуратно извещая читателей о каждом госте, прибывшем из‑за рубежа, ничего не сообщала об Андерсе Эрстеде. «Le Furet», хоть и звалась «Хорьком», тоже не проявила должной пронырливости.
Изучить старые номера?
Торвен озаботил этим мордатого лакея, сносно изъяснявшегося по‑французски. Тот моргнул наивными голубыми глазами, всосал мзду в ладонь и поклялся к следующему утру разузнать «assez tout» — все как есть. «Мсье Эрстед? По приглашению Технологического института? Найдем‑с, не извольте беспокоиться!» Зануда был уверен, что мордатый сперва сообщит о его просьбе в полицию, а то и в страшное Troisie’me Division, [35] но особой беды в том не видел.
Эрстед приехал в Россию официально, по приглашению. Старший брат-академик отправил вдогонку своего помощника? — обычное дело.
Презирая безделье, он покуда решил заняться иными делами. Ибо Ханс Христиан Андерсен умел перекладывать свои многочисленные заботы на чужие плечи.
Тоже талант, если вдуматься.
В начале следующего года здешний издатель Смирдин намеревался выпустить в свет сборник стихов гере романтика. Проблема была с языком — переводчиков с датского в Петербурге не нашлось. Зато нашелся выход — неунывающий Андерсен накропал французский подстрочник, что решило дело. Некто, скрывающийся под псевдонимом С. Познанский, охотно взялся за работу. В письме, догнавшем дилижанс в Кёнигсберге, «дяде Торвену» было велено оного Познанского отыскать и лично проконтролировать ход работы.
Адрес прилагался.
Изучив план города, Торвен поправил галстук и бодро зашагал по улицам, стуча тростью. Нужный дом он нашел со второй попытки, узнал от дворника, что барин из шестой квартиры вот-вот изволят вернуться, решил обождать…
И столкнулся со Станисласом Пупеком нос к носу.
Черт тебя дернул, Зануда, в ответ на изумленное: «Фон Торвен? Ты?!» ляпнуть, что никакой ты не «фон». Окажись приятель-корнет сволочью… Вышлют как пить дать. В крайнем случае доведется позвенеть кандалами, совершая экскурсию по Зауралью.
Зато не придется объясняться с Пин‑эр.
— Kleine Siskin, — кивнул Торвен. — Птица чиж скромного размера. А что такое «pyzhik»?
Пан Пупек хмыкнул.
— Зануда ты, Иоганн. Тебя нужно показывать тем, кто считает занудой меня. Пыжик — олененок. И заодно мех с бедняги…
— А еще шапка из этого меха. Пока доступно. Итак, птица чиж скромного размера в шапке из меха олененка вымыл нижние конечности в реке Фонтанка…
— Матка Боска! — Пупек даже руками развел. — Иоганн, это же просто песня! Там поется не про птицу, а про студентов в желто-зеленых мундирах. Их и прозвали чижиками-пыжиками!..
Торвен едва сумел сохранить серьезный вид. Русский язык он и в лучшие времена знал вприглядку, поэтому попытался суммировать услышанное на более знакомом:
— Chizhik-pyzhik, was Sie schon?
Im Fontanka Füße waschen…
— Это ты по‑швабски? — поляк с подозрением глянул на конкурента-переводчика. — У тебя «Füße» без артикля. Плохо вас, шпионов, в Копенгагене готовят.
И оба затянули на два голоса:
— Чижик-пыжик, где ты был?
На Фонтанке ножки мыл.
Вымыл ножку — и упал,
Снова ноги замарал!
Выкушанный штоф Russische Wodka придавал пению дополнительную искренность. Торвен внезапно понял, что Петербург начинает ему нравиться.
— Эх, раз-два-три-четыре!
На хозяйкиной квартире
Днем и ночью чижик спал,
Уходя от ней, зевал!
Встречные прохожие шарахались в сторону. Самые пугливые крестились втихомолку. Распелась немчура! Не иначе, праздник на их немецкой Straße!