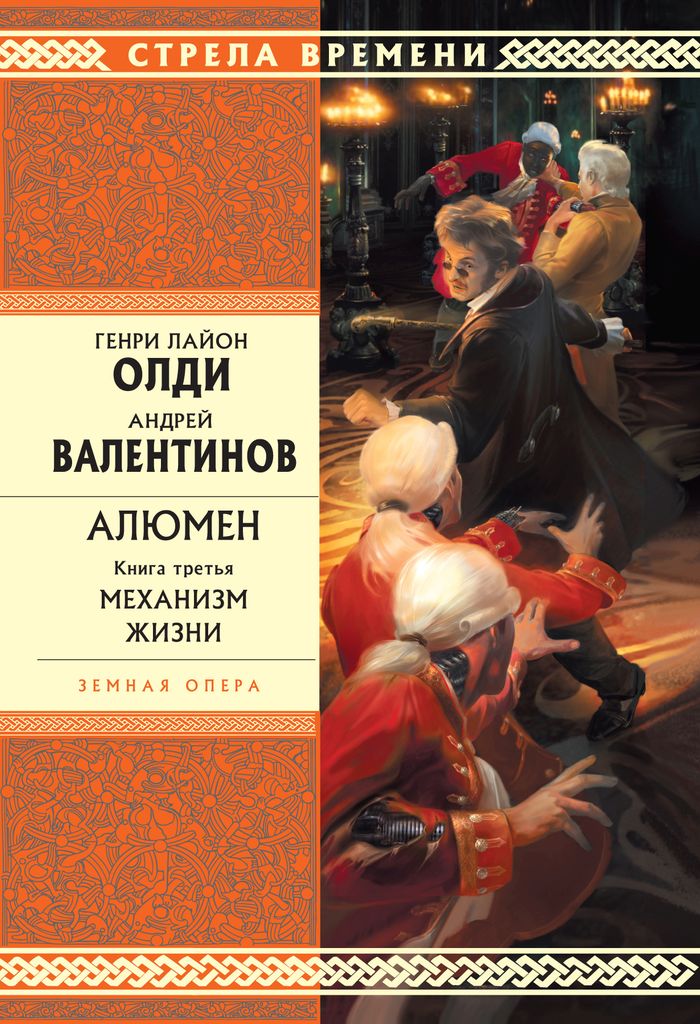class="p1">Чур нас, чур!
Трость-пушинка легко касалась мостовой. Ноги сами летели вперед, а в голове обозначилась давно позабытая ясность. Дела шли неплохо. Переводчика для Андерсена отыскал, в железа не куют, в Сибирь не отправляют. А все прочее, включая вдову Беринг…
Решится, никуда не денется!
— Чижик-пыжик, мой соколик,
Что ты ходишь, как католик?
Бери косу, молоток,
Иди ко мне в холодок!
Под «Kleine Siskin» прошагали весь Невский. Пан Пупек то и дело, извинившись, оставлял Торвена одного, сам же исчезал неведомо куда. Возвращался быстро, через минуту-другую. Зануда даже не пытался проследить, за какой угол сворачивал общительный поляк. Дела у человека! Остальное — не наша шпионская забота.
Когда же песня закончилась, он с удивлением сообразил, что проспект давно позади. Перед ними — огромное здание с куполом и сияющим золотым шпилем. Справа пустырь, застроенный деревянными балаганами, вдали — темный силуэт Зимнего дворца…
— Налево, Иоганн, — пан Пупек был трезв и серьезен.
Трость в руке налилась свинцом.
— Ты воевал за свою Данию. Я — за мою Польшу. Наполеону я не верил — мелкий провинциальный сатрап. Угодил на престол и потерял голову от счастья. Я верил Александру, русскому царю. Он обещал… У Александра это очень хорошо получалось — обещать. Восстановить Польшу, вернуть Пястов на престол… Клялся, божился, даже подписал проект Конституции. Чем все кончилось, ты знаешь. Мою Родину опять разрезали на части. Мы оба проиграли, брат Торвен. Но Дания все-таки осталась на географических картах. Польша же — только в учебниках истории… После войны я ушел в отставку, не захотел служить лжецу. А в 1830‑м Польша воскресла — чтобы вновь погибнуть.
Здание, вдоль которого они шли (Адмиралтейство, разъяснил пан Пупек), казалось бесконечным. Окна, подъезды, лупоглазые мраморные пугала, черный чугун пушек. Линейный корабль-левиафан, завязший в чухонских болотах.
— Про братьев Эрстедов я много слыхал. Твой полковник, как я понимаю, младший? Это его изгнали за идею ввести конституцию в Дании? Смело, я тебе скажу, очень смело. Между прочим, и Андерсен — карбонарий в душе. Прислал мне сказку про парижского мальчишку, которому нагадали, что он умрет на троне. Он и умер — когда в июне 1830‑го штурмовали королевский дворец. Ребенок с пулей в сердце истекает кровью на монаршем горностае. Какой образ! Не читал?
Торвен отвечал односложно. Постукивал тростью по камню мостовой. Прикидывал, куда клонит давний знакомец — и куда ведет. Очень хотелось на миг оказаться в Копенгагене и узнать у доверчивого Ханса Христиана Андерсена: кто именно подкинул поэту адресок переводчика С. Познанского, он же Станислас Пупек?
В случайность верилось плохо.
— Знаешь это место?
Левиафан остался позади. Открылось пространство — гулкое, пустое, насквозь продуваемое холодным ветром. Гранитный камень посередине, силуэт всадника на вздыбленном коне.
— Петровская площадь. Ее еще называют Сенатской. Здесь все и случилось.
Зануда хотел переспросить, но вовремя вспомнил.
— Восстание? Семь лет назад? Но это ведь русские! Какое тебе, поляку, дело до их домашних ссор? Феодальные сеньоры решили посадить на престол принца Константина вместо неугодного им Николая…
— Не говори глупости, Торвен, — пан Пупек сверкнул глазами. — Феодальные сеньоры? Мицкевич ответит тебе лучше, чем я.
Он шагнул вперед, встал спиной к Медному Всаднику:
— О где вы? Светлый дух Рылеева погас,
Царь петлю затянул вкруг шеи благородной,
Что, братских полон чувств, я обнимал не раз.
Проклятье палачам твоим, пророк народный!
Торвен постарался не дрогнуть лицом. Слишком велик был контраст между «Чижиком-пыжиком» и высокопарным стихом. Слишком переменчив оказался пан Пупек. Интересно, за кого тебя здесь принимают, Зануда? За единомышленника конституционалиста Андерса Эрстеда?
За эмиссара датского республиканского подполья?
Гере Андерсен как‑то с восторгом пересказывал «дяде Торбену» свеженькие идеи коллеги Мицкевича. Дескать, три народа — польский, еврейский и почему‑то французский — составляют триединый Израиль, призванный спасти грешное человечество. Такая себе интернациональная троица мессий, своим бегством с «рек вавилонских» торящая дорогу в светлое Грядущее.
Устроим квартет? Предложим Дании сыграть на контрабасе?
— Нет больше ни пера, ни сабли в той руке,
Что, воин и поэт, мне протянул Бестужев,
С поляком за руку он скован в руднике,
И в тачку их тиран запряг, обезоружив…
Зануда мысленно согласился — не с Мицкевичем, с тираном. А если бы народные пророки вывели взбунтовавшиеся полки на Ратушную площадь Копенгагена? С «воинов и поэтов» станется! Старый Фредерик — из тиранов тиран, одна вдова Беринг чего стоит! Значит, выводим полки, разворачиваем пушки жерлами на Амалиенборг, для верности расстреливаем безоружных парламентеров…
«Нет больше ни пера, ни сабли в той руке…»?
Хвала святому Кнуду — и святой Агнессе хвала!
— Можно любить Старый порядок, — поляк словно подслушал его мысли. — Любить с его коронами, мантиями и рыцарскими орденами. Но старина — это не только побрякушки, брат Торвен. Это еще и право сильного. Право войны и грабежа. В прошлую войну у вас забрали Норвегию. Скоро наступит очередь Шлезвига и Голштейна. Пруссия с каждым днем сильнее, проклятые швабы не успокоятся, пока не восстановят державу Барбароссы. Что тогда останется от твоей малютки Дании?
На этот раз пуля угодила в яблочко. Двадцать лет назад о державе Барбароссы молодому Торвену говорил Карл Клаузевиц. Горячился, обещал скорый и быстрый «аншлюс» исконно немецких провинций… Прапорщик Иоганн фон Торвен, патриот из Голштейна, внимал с радостной улыбкой.
Торбен Йене Торвен, помощник академика Эрстеда, хмурил брови.
— Нам не помог даже Бонапарт, — вздохнул он. — Чью помощь предлагаешь ты? Кучки польских инсургентов? Или ты думаешь, что Данию спасет революция?
— Нет! Данию спасет Объединенная Европа. Общий дом — без границ, армий и безумных тиранов. Тогда ни Дании, ни Польше — никому! — не придется больше бояться. Понимаешь?
Ответа пан Пупек ждать не стал. Отвернувшись, он быстро зашагал к подножию монумента. Торвен захромал следом. В голове резвился и бил клювом наглый Чижик-пыжик. Догнать поляка удалось только у Всадника: Пупек стоял возле черных букв латинской надписи.
— «Петру Первому — Екатерина Вторая». Жуткий монумент, брат Торвен. Болтают, что осенними ночами Он срывается с пьедестала и носится по улицам. Утром находят раздавленные трупы. Александр Пушкин обещал написать об этом поэму…
Торвен с подозрением глянул на Всадника, но ничего монструозного не обнаружил. Тонны позеленевшей меди на могучем валуне… Хорошо быть протестантом и не верить в идолов!
— Здесь есть следы картечи. 14 декабря пушки били прямо по Петру. Удобнее было целиться… Я тебя не убедил?
Зануда пожал плечами.
— Насчет Объединенной Европы? Об этом мечтают уже больше века. Что толку? Благих пожеланий уйма, но всегда