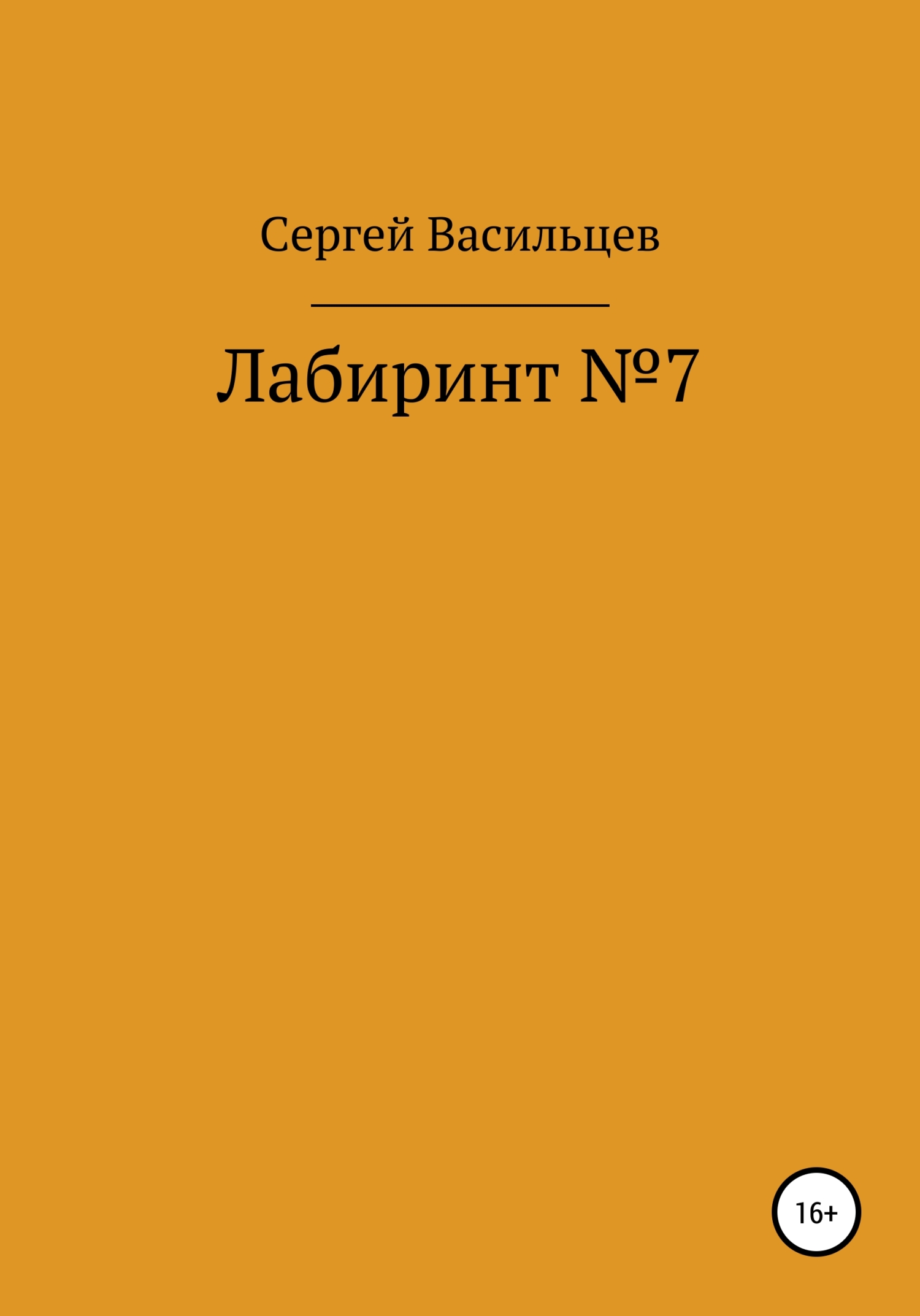хотя бы этой проблемы у него теперь не существует.
Сергей всегда восхищался своими родителями. Они умудрялись все делать во время и к месту: на банкетах слушать спичи и вежливо подмечать обновки соседей; за столом говорить о еде; по дороге на службу обсуждать последние новости, а, придя на нее – особенности кадровой политики. Когда удавалось выбраться в театр, в антракте они пили кофе с коньяком и выражали свое отношение к драматургии. В музеях их интересовала живопись, в книгах – литература. Их сыну иногда казалось, что и он был рожден потому, что этим следовало заниматься прежде, чем отойти ко сну.
Поездка к родителям на праздник была штатной, но поздравить их очень хотелось. Поговорить не выйдет? Да и ладно – в другой раз!
Гостей прибыло много, и все они успешно изображали радость встречи после вынужденной разлуки. Звучали программные тосты и дежурные фразы. Тут Сергею напомнили, что у отца есть брат, который сидел в тюрьме и о котором стараются не говорить.
– Как дела? – спросил родитель, вырвавшись из роли юбиляра.
– Нормально, – ответил сын. К чему распространяться?
– Поговорим еще? – спросил отец.
– Безусловно, – ответил сын. – Найдем время.
Зазвучала музыка. В большой зале стояло огромное пианино фирмы DIEDERICHS FRÉRES, которое по одной версии принадлежало самому Скрябину. По другой – он имел точно такой же инструмент. Сейчас оно выдавало бравурное:
«Эй, наливай тем, кто поет,
Кто не поет, нальет себе сам…»
Гости за столом изображали хоровое пение.
Сергей перешел в отцов кабинет и решил поиграть во внимательного слушателя. Понимающе смотрел в глаза собеседникам, иногда кивал, согласно мычал или поддакивал. Так что гости сочли его очень проницательным и культурным молодым человеком. К концу вечера он даже весело нажрался – разотмечался вдрызг – и был блестящ и остроумен – во всяком случае, по собственным оценкам. Изобретательно танцевал с фигуристой партнершей, и ей это безумно нравилось, пока он не уронил ее под стол. Что ж господа: «Кто не грешил, не будет и прощенья, лишь грешники себе прощенье обретут».
Глядя на родителей в праздничной суете, он вдруг отчетливо представил себя малышом. Сухие степи летнего юга. Поля подсолнухов. Море. Глинистые обрывы над узкой полоской каменистых пляжей. Белый шелковистый глянец, лежащий на водной глади. Далекие корабли, уходящие за горизонт.
Когда он был маленьким. А когда он был маленьким? Был когда-то.
Память не может сохранить детского ощущения бесконечности. Но свет утреннего солнца… голоса родных… шершавую кожу ладони деда… запахи лета, радости, родного дома, медленную реку среднерусской равнины. Они еще приходят и живут рядом с нами. О чем это я?
Дед Сергея по матери умер давно. В этом мире парень не знал других пращуров. Только этого сухого старика с голубыми до белизны холодными глазами. Помнил, как они удили рыбу на рассвете, и над полотном реки в утренней тишине поднималось солнце. Туман таял медленно. Исчезал, возвращая миру краски и влажную магию утренней росы. В омуте у обрыва бурунила крупная рыба. И впереди был еще целый счастливый день – долгий-долгий как сама жизнь.
Помнил, как дед любил сидеть с внуком на завалинке, теребя до боли его вихры.
– Убить человека, внучек, – скрипел старик, – проще, чем высморкаться. Бабка твоя хорошо это знала. Из-за нее я свой первый срок отмотал. – Он пожевал губами и добавил:
– Жизнь прошла зря, – подумал и переставил слова местами. – Зря прошла жизнь… Зря прошла… – внук ничего не понял, но спросил:
– Деда, а расскажи про человека.
– Про кого?
– Ну про того, кого убили.
Дед снова задумался и сказал:
– Быть добрым только для того, чтобы умаслить этот мир? Смешно! И человек здесь ни к чему не нужен… Бабка твоя очень красивая была… Но ее я всегда жалел, потому что любил. А вот их…
Он подхватил одну из разгуливающих возле ног куриц и пристроил ее к колоде. Поднял топор и рубанул почти без замаха. Птичья голова с хрустом отскочила в сторону, а тело выпорхнуло из рук деда и понеслось по двору, ударилось о забор и завалилось на бок, расплескивая кровь и все еще трепыхая крыльями.
В десять с четвертью карета с Людовиком XVI Капетом, его духовником и двумя жандармами прибыла на площадь Революции, где должна была совершиться казнь. Эшафот возле пьедестала, на котором некогда возвышалась статуя Людовика XV, кольцом окружали войска. За ними колыхалась толпа. Она ждала.
Все мужество приговоренного уходило на то, чтобы хранить величие. Ему удавалось. Он не спеша взошел по лестнице, снял воротник и сюртук. Хладнокровие изменило ему лишь в ту минуту, когда палач взялся остригать длинные пряди волос и вязать руки.
– Я не позволю этого! – король покраснел от гнева.
– Держитесь, государь. – прошептал подоспевший Эджерворт. – Осталось немного. Это не больно.
– Откуда Вы знаете? – удивился Капет и неожиданно успокоился. Подойдя затем к краю эшафота он прокричал в толпу, – Я прощаю своим врагам! – На большее сил не хватило.
Его уложили на длинную доску, доходящую до ключиц. Король смог рассмотреть лишь стертые волокна деревянного ложа гильотины, за которыми виднелась корзина. Ее тростник отливал золотистой желтизной.
Десять часов двадцать минут.
Духовник ошибся.
Боль впилась в него остротой бесконечности. А затем он начал падать. Лицом вперед. Тростник, ринувшись навстречу, стукнул по носу. И стало темно от залившей глаза крови.
«Смерти нет! – была последняя мысль. – И бессмертия тоже».
– Да здравствует нация! – заорала толпа, увидев мертвую голову в поднятой руке палача.
Мальчик Сережа был настолько поражен этим зрелищем, что даже позабыл заплакать.
– Не рано, Никифорыч, кур бить начал? – Заглянул во двор сосед – местный бригадир Андрей Платонов.
– Вишь, внук приехал, – скосил на него глаза дед. – Свеженьким угостить, не в городе, чай! – облизнул кровь с лезвия топора. Продолжил. – Как у вас с продовольственной программой? Решаете?
– Программа есть, продовольствия шиш. Правильно говорю. Нет? – съязвил бригадир и решил высказаться. – Рассуди, Никифорыч. Вот ведь во мне лежит огромный заряд жизни, а как почну им палить в наше дело, так кой-что одна малость выходит… Ты стараешься все по-большому, а получается одна мелочь – Сволочь! Ты скот этот напитаешь во как! Я сам силос жую, прежде чем ее угощаю, а отчет мне показывают – по молоку недоборка, а по говядине скотина рость перестала!… На центральном взяли сорок рабочих всякого пола с завода – на выручку. По сговору, – мне два помощника, два умных на глаз мужика досталось.