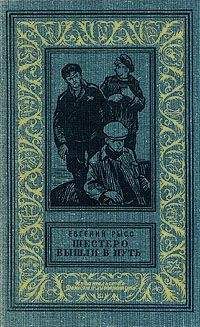«Откуда я его знаю», – подумала Лидка. И почти сразу же Рысюк прошипел у нее над ухом:
– Че-ерт… Это же…
– Что? – нервно спросила мама.
– Это Зарудный, – сказал отец. – Депутат Зарудный.
С экрана смотрел Славкин папаша.
Светка жила этажом выше и была на год старше Лидки. Светка училась в двести пятой школе и в отличие от Лидки имела время на посиделки в «дурной компании». Проходя мимо лавочки, где эта самая компания коротала вечера, Лидка внутренне сжималась и кивала как можно равнодушнее.
В последние месяцы все переменилось, и перемены скрыть не удалось. Лидка перестала ходить на факультативы, более того, повадилась сбегать с последних уроков. В лицее ей было так же уютно, как карасю на холодной сковороде – вроде бы и не жжет, но и удовольствия мало. Уж лучше на скамейке перед домом…
Но главное – со Светкой можно было говорить про девятое июня. Светка не начинала истерически смеяться, всем своим видом показывая, как ее забавляет Лидкина глупость, и не крутила пальцем у виска. Светка даже добывала где-то новые сведения – оказывается, были целые организации, посвященные Последнему Апокалипсису. И вроде бы двух разновидностей – одни посвящали оставшуюся жизнь «освобождению души», бросали пить, курить, уходили из семей и посвящали себя людям. Другие, наоборот, ничего очищать не собирались, а хотели напоследок пожить, продавали квартиры и на вырученные деньги устраивали оргии, игрища, морские путешествия и прочие приятные вещи. В морское путешествие Лидка и сама бы не прочь, но вот чем занимаются на оргиях, представляла себе смутно.
Светкин день рождения пришелся на воскресенье. Двадцать второе ноября, привычно отметила Лидка.
Гости собрались к половине восьмого. Мальчишек было шестеро, девчонок – вместе с Лидкой – тоже. По-видимому, в таком расчете крылся некий смысл; выпив по рюмке мутноватой крепкой жидкости, гости разбились по парам, как в детском саду. Рядом с Лидкой оказался длиннющий, бледный, болезненного вида парень лет восемнадцати, явно близорукий, но стесняющийся носить очки.
После первого же тоста закружилась голова, и сразу сделалось легче: уже ни о чем не думалось, во всяком случае, ни о чем плохом.
Лицеистов в новой компании не ставили ни в грош. Все, кроме Лидки, гости были из двести пятой школы, из младшей и средней групп, а тот, что сидел рядом с Лидкой, – и вовсе из старшей, второгодник. Говорили о собственных учителях – исключительно паскудных, глупых и пошлых. У каждой училки было по несколько кличек; Лидка путалась и никак не могла понять, кто кого куда послал и кто кого огрел линейкой. Сдуру призналась в невежестве – и сразу же сделалась центром компании. Ее наперебой принялись просвещать:
– …А химичку – Доска, Два Соска». А математичку – Феня Хреновна. А гэошника…
Остальные клички были непечатные, но большей частью смешные до колик. Лидка по-лошадиному ржала и повторяла вслух наиболее смачные прозвища. С удовольствием примеряла их к лицейским завучихе, математичке, директору; она только теперь поняла, как сильно их ненавидит. За вытянувшиеся физиономии на пороге музея, за патетические завывания: «В этом святом месте…» И за то, что ее не исключили. Пусть бы выгнали – так нет, брезгливо поморщились, опасливо покосились на Зарудного-папашу и оставили. Чтобы всякий раз, вызывая ее к доске, скептически поджимать губы.
А в двести пятой, именем которой лицеистов запугивали до дрожи в коленках, губ никто не поджимал. Там бранились и кричали, швырялись книжками, лупили линейкой по голове и вызывали родителей, но губ поджимать там никто не стал бы. Во-первых, потому, что все ученики считались испорченными по определению и ждать от них целомудрия не имело смысла. А во-вторых, потому, что честнее один раз закатить девчонке пощечину, чем месяц за месяцем морщиться и презирать.
– …А этот парень тогда спер у бати ключи от машины и привел Анжелку в гараж. Они мотор завели, чтобы не холодно, и полезли на заднее сиденье. А машина здоровенная! Вот они и стали кувыркаться, а гараж закрыт! А мотор работает! Они позасыпали и отравились, ну, нанюхались выхлопов, вместе их и похоронили…
– Вот ты ржешь, а мне мамка ключи от машины не дает теперь…
– На тот свет захотел?!
– Все фигня, хлопцы, из нашего класса один пацан в подвале поставил раскладушку у трубы, тепло…
– …Я у сеструхи с головы этот кулек тащу, а она уже синяя, еле откачал… «Скорую» не вызвал, чтобы на учет не поставили…
– …Ну ладно, думаю, денег я добуду, не впервой, но чтобы задницу ему подставлять…
– …Купил петарду и училке в стол. Как она заорет!
Лидка отхлебывала из рюмки и хохотала все громче. Каждое слово казалось неимоверно смешным, но почему-то сразу же забывалось.
Уже через час она была своим парнем в новой компании. Бледнолицый сосед-второгодник пел под гитару. Его звали Геной, Лидке он нравился все больше и больше – такой взрослый, с голубыми беззащитными глазами, с хрипловатым усталым голосом…
Потом зажгли две свечки и погасили люстру. Включили музыку, и Гена пригласил танцевать не Лидку, а длинноногую соседку справа. И прямо по ходу танца полез ей под коротенькую юбку-пояс.
Лидка выбралась из-за стола, пошатываясь, протиснулась между танцующими, нашла ванную. Долго смотрела в собственное пьяное, лупоглазое лицо, тщетно пыталась сосредоточиться.
Катись все к чертям. Все равно скоро мрыга. Почему она, Лидка, не имеет права делать то, что хочет? Хотя бы накануне неотвратимой смерти…
– Эй, малая! Иди сюда, играть будем!
Комната плавала в табачном дыму. Со стола прибрали пустые тарелки, именинница притащила детский волчок на присоске, с бегущей стрелочкой. Под всеобщий хохот волчок запускали, и тот, на кого указывала стрелка, снимал с себя часть одежды. Сладко замирало сердце, было страшно и весело, гости по очереди стягивали с себя туфли, рубашки, носки, пояса, потом тот, что сидел напротив Лидки, оказался в одних трусах и заорал, что больше играть не будет, но на него заорали в ответ, что выходить из игры нельзя и что правила есть правила. Он подчинился и всякий раз шумно радовался, когда волчок указывал на другого.
Лидку лихорадило. Она сняла сперва туфли, потом пояс, потом колготки. Кое-кто из девчонок уже сидел, хихикая, в исподнем, и оно оказалось весьма затейливым, не чета скромному Лидкиному бельишку. Волчок вертелся, замирало сердце, более-менее одетыми оставались только Лидка да ее близорукий сосед, в их адрес отпускались шпильки. Потом волчок трижды подряд указал на веснушчатую девчонку с рыжим хвостом на затылке – та заныла, что так нечестно, и, ноя, разделась догола. У Лидки глаза на лоб полезли – она не думала, что до такого дойдет…
Ну, позвать бы сюда завучиху с математичкой! И посмотреть на их лица…
Все равно мрыга, сказал кто-то внутри Лидкиной пьяной головы. Какая разница?
Я плохая, поняла она с удивлением. Я плохая девочка! Я уж-жасная девчонка, и как это здорово – быть плохой…
Но тут игра закончилась. Музыка зазвучала громче.
Кто-то подбирал с пола свои вещи, кто-то не стал. Длинноногая девчонка в юбке-поясе танцевала на столе; Гена, близоруко щурясь, бродил в одном носке и искал под ногами другой. На голом плече его обнаружилась татуировка, нанесенная, похоже, кем-то из одноклассников, во всяком случае, здорово похожая на рисунок в тетради, – какой-то кривобокий свирепый крокодил.
Пахло духами, потом, перегаром, остатками еды. В темном углу кто-то возился, хихикая, и вроде бы полуголых тел там было не два, а минимум три…
На диване именинница Светка целовалась с парнем, чьего имени Лидка не запомнила.
Она едва отыскала свои туфли. Колготок так и не нашла. Пояса тоже. Завтра надо будет позвонить соседям: «Извините, вы не находили в гостиной моих колготок?»…
Она осторожно прикрыла за собой входную дверь. Спустилась на два пролета вниз. Отыскала ключ в кармане джинсовой юбки. Ключ она захватила именно на этот случай – чтобы вернуться тихонько. Чтобы не принюхивались подозрительно, не оглядывали с головы до ног…
Дверь бесшумно приоткрылась. Лидка скользнула в запахи собственной квартиры; в прихожей было темно, в гостиной тоже, только голубовато подмигивал проклятущий телевизор.
Она сняла туфли. Босиком, поджимая пальцы, прошла вперед, намереваясь скользнуть к себе в спальню…
– …экспертами, сошлись с точностью до секунды… Через двести дней, девятого июня будущего года, в шестнадцать часов двадцать одну минуту… И господь не сжалится более…
Лидка обмерла.
В комнате что-то возмущенно проговорила мама; Лидка, как загипнотизированная, сделала еще шаг и уперлась взглядом в экран.
С экрана смотрело желтоватое, морщинистое, печальное лицо. На переднем плане нервно подрагивал микрофон; казалось, в следующую секунду поролоновая груша заткнет говорящему рот.