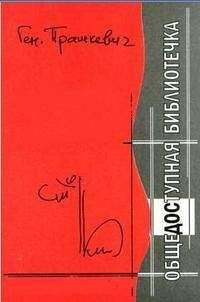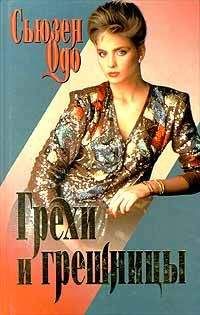Вой метели. Свеча. Сил нет, как хотелось описать рыжие шапки пены на водоворотах ручьев, бегущих с размытой вершины Берутарубе. А ледяная звезда вулкана Атсонупури, отраженная в синей бухте? А речка Тихая, теряющаяся в песках, не добежав какой-то сотни метров до океана? Вот что примешивалось к желанию написать новую повесть. Такую, чтобы читатель задыхался от нежности и грусти – тайной и явной.
Дым из труб,
а тропа снежная.
Нежный и грубый,
но больше нежный,
я прихожу в незнакомый дом,
в дом, где мне каждый угол знаком,
где мне говорят: «Ну, как? Поостыл?»
Я не остыл, я просто простыл.
Я изучил от доски до доски
комнату, где шелестят сквозняки.
Комнату, где прокурен насквозь
каждый проржавленный рыжий гвоздь.
Мне говорят: «Успокойся, поэт.
Обидами полон белый свет».
Но кто же увидит, что в сердце моем
Дева-Обида играет копьем?
Вот оно!
«Дева-Обида».
Чем плохо название?
Ведь ко всему была примешана ты.
Или напротив, это к тебе все было примешано…
Ну да, светлый герой. Хорошая фамилия. Но ведь рано или поздно рядом с Михаилом Тропининым окажутся рыбак Хавро или богодул Сказкин. Закричат весело: «Наливай!» – и всё испортят.
Нет, искусство это миф.
Истинное искусство всегда произрастает из мифа.
Сил нет, как темными сахалинскими вечерами хотелось написать о Деметре, о похищении ее дочери, о вечных, как мир, проблемах. Прислушиваясь к вою сахалинской метели, я видел нежные зеленые луга Нисейской долины. Совсем как пологие склоны вулкана Богдан Хмельницкий, поросшие лилиями и чудовищными колокольчиками, только на лугах Нисейской долины росли нарциссы. Вот темный нарцисс. Его вырастила Гея. Чудесный цветок восхитил богов и людей, от его благоухания смеялось море. Совсем юная Персефона, несчастная дочь богини Деметры, в изумлении застыла перед невиданным цветком. Откуда ей было знать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Ведь вырастила Гея этот цветок по наущению самого Зевса. Зевс собирался отдать Персефону Гадесу – богу мрака (он же Аид, он же Плутон, он же Полидегмон). Как сказать об этом Деметре? Как сказать такое Персефоне, обожающей Солнце?
Да никак. Зевс не собирался с кем-нибудь объясняться.
Паюза, кстати, в таких случаях вел себя совсем как Зевс.
Разверзлась земля, и Гадес унес Персефону – в царство мрака. Но до слуха богини Деметры донесся короткий вскрик.
«Геката, ты слышала?»
«Да, Деметра».
«Где Персефона?»
«Спроси Аполлона».
Гипокризия.
Деметре лгали все, одни из страха, другие от незнания. Ей лгали даже вещие птицы. А Аполлон, видящий все, странное высказал утешение: «Смирись, Деметра. Конечно, Персефона в руках Гадеса. Но ведь Гадес, он твой брат».
Извращенцы.
Вой метели. Тропинин среди богодулов. Персефона любуется нарциссом, а некий А. Заборный пишет рецензии. Боже мой, неужели это навсегда? И почему это А. Задорный представляет страну, народ, всю многонациональную советскую литературу, а я ничего и никого не представляю, только сую палки в колеса.
Какие палки?
В какие колеса?
Ну как же, знающе нашептывал А. Зазорный, вместе с водкой просочившись в мое подсознание. Ты древними извращенцами любуешься, тебе никчемный богодул Сказкин приятен, а жизнь комсомольцев для тебя лес темный. Вон Зиганшин со товарищи совершил подвиг, а тебя тянет на Персефону. И мой старший внук тоже отличился, вдруг сочинил сказку. «Пошла козочка погулять, попрощалась с мамой». Гениально была схвачена атмосфера.
Конечно, греки сами разберутся.
Так сказал мне однажды Дима Савицкий.
Мы подружились с ним в Москве, почему-то поступали в Литинститут.
Впрочем, это не главное. Мы слушали музыку, читали стихи и были уверены, что мир, конечно, создан для нас. Через много лет, в 1990 году, на обложке книги, изданной в серии «Русское зарубежье», я снова увидел Диму. Он похудел, оброс бородой, под портретом было написано: «Дмитрий Савицкий (1944, Москва) до отъезда на Запад работал токарем, рабочим сцены в «Современнике», грузчиком, ночным экспедитором, красил заборы и крыши, показывал детям и пенсионерам кино, отслужил три года армии в Сибири, вел четвертую полосу в московской многотиражке, работал внештатником на радио и телевидении. Был исключен с четвертого курса Литературного института за повесть об армейской жизни». Ну и все такое прочее.
«Старик, – писал мне Дима в 1968 году. – После «России» Блока, после «Все перепуталось и некому сказать», после цветаевского «Россия моя, Россия, зачем так ярко горишь?», после всех единственных и немногих прекрасных стихов от Пушкина до Смелякова писать о нашей России? Нет! Можно писать «про» и «в», но тема так нашпигована миллионами поэтов, что, ей богу, никогда не возьмусь и не буду.
О. М. (Осип Мандельштам) писал: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первое – это мразь, второе – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена (наш институт!), поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда». В том-то и дело, старик, что прохиндейство многих и многих сделало из литературы невообразимый гибрид. Писать по соцзаказу честно только статьи. Подводить вдохновение, этого пугливого сверчка, к пишущей машинке гонорарного отдела так же пошло, как выставлять свою жену в голом виде для платного обозрения прохожими…
Событий много, хотя я умышленно пытаюсь пропускать их сквозь пальцы: идет верстка (и вокруг нее полемика «нужно – ненужно») книги Мандельштама; четырнадцатого числа, несмотря на запрет, у памятника Маяковскому должна быть читка; познакомился с интересными парнями, когда-нибудь из-под крышки гроба их напечатают и признают гениальными. Музыка – моя болезнь. Записал прекрасную пластинку – «Айлд момент» Грэнт Грина, синего гитариста. Его пятнадцатиминутная пьеса, напоминающая сдвоенные ночные шаги, заставит меня снять еще один короткометражный фильм. Кто-то видел пластинку Бартока с обложкой Пикассо. Но самое главное событие – не пишу. Это не умышленный тормоз, а удивленный взгляд – зачем?
Мне не хватает душевных сил переродиться, и я ушел в ожидание.
Ты можешь подумать о никчемности городской жизни, но это будет неверно. Дело не в том, что поток информации (разнокачественной) давит и лезет, дело в том, что началась сопротивляемость давлению извне и нужен другой, внутренний, поток. Другими словами, нужно моральное обновление и очищение. Ведь как зыбки стали собственные нормы честности, порока, тщеславия, лени, равнодушия. Из этого трудно выйти, нужны географические или эротические сдвиги и нужно опять исправлять двойку по неусвоенному предмету молчания…»
«Началась сопротивляемость давлению извне…»
Началась эта сопротивляемость, разумеется, не тогда.
Она началась задолго до нас. Воздух давно пропах горечью.
Лет через пятнадцать (это я все еще о сопротивляемости давлению извне) я прощался в новосибирском Академгородке с югославским поэтом Сашей Петровым. Он улетал в Белград. Мы хорошо надрались с ним в Доме ученых. Он надписал мне книгу стихов и сказал: «Старик, я перевел и издал в Белграде два тома русской поэзии. Я сам пишу хорошие стихи. По крайней мере, их издавали в Париже, в Лондоне, в Балтиморе, в Осло. Но в России до сих пор не опубликовано ни одной моей строки». И потребовал: переведи!
Нет проблем! Я был благодушен. Конечно, я переведу стихи замечательного югославского поэта Саши Петрова, русского по происхождению, его дед, кажется, был врангелевским полковником. Заручившись обещанием одного толстого сибирского журнала, я взялся за книгу Петрова.
«Смольный». Странно.
Я удивился: стихи с таким названием и еще не переведены!
Нет, не революционная баллада, понял я, вчитавшись. Скорее элегия.
Институт благородных девиц… выпускной бал юной бабки Саши Петрова…
Она смеется, она кружится в счастливом вальсе, ей в голову не приходит, что скоро, совсем скоро затопают по паркету Смольного института тяжелые башмаки революционных матросов. Пришлось стихотворение пропустить. Толстый сибирский журнал, с которым я договаривался о переводах стихов Саши Петрова, всегда отличался высочайшей степенью благонамеренности.
«Перец Маркиш». Вот это горячей. Жертвы репрессий вызывали и всегда будут вызывать сочувствие, тем более – хорошие поэты.
«И Луна висела над строем сибирских стрелков, как кривая улыбка коммуниста, загнанного по ошибке ЦК на два метра под землю…»