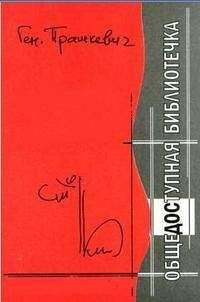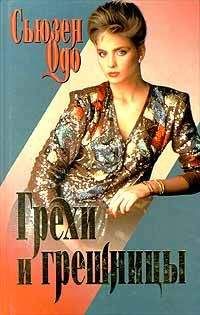Как животные страсти обратить в истинно человеческие?
Конечно, проще всего отдаться приступу гипокризии, напрямую отождествлять себя не с кем-то там, а с римским атлетом. Почему нет? Я свободно могу насобирать кучу свидетельств того, что обезьяночеловека с острова Ява я перерос.
Да вот вам пример. «Лет двадцать назад, – (цитируемый рассказ написан в конце 70-х прошлого, увы, уже прошлого века), – получил я письмо от четырнадцатилетнего читателя из Тайги, есть такая станция в Сибири. Парень обожал фантастику, перечитывал, мечтал сам стать писателем, даже сочинил повесть об Атлантиде, этакую мозаику из прочитанного. Сочинил и прислал мне с надписью: «Дарю вам на память мой дебют. Храните его». – «Ну и нахал», – подумал я. И вернул парню рукопись с суровой отповедью: дескать, сначала надо стать личностью, а потом уже посвящения раздаривать. А двадцать лет спустя в Москве на семинаре молодых писателей подходит ко мне долговязый малый со шкиперской бородкой и, склонившись надо мной, вопрошает, с высоты глядя: «Помните того мальчика из Тайги? Это я». Честное слово, я страшно обрадовался своей непрозорливости. Ну да, недооценил, проглядел. Но ведь это так прекрасно, что существуют на свете люди, которые добиваются своего и могут добиться».
Это из рассказа Г. И. Гуревича «Только обгон!»
Ученики, как правило, сами выбирают себе учителей.
Бывает, они даже убеждают учителей признать себя их учениками.
Несомненно, это счастливый вариант. Мне часто везло на счастливые варианты. Но сейчас интересует меня другое. Где, как, когда становимся мы самими собой? Что помогает нам побороть гипокризию, выдержать рецензии А. Задорных и холод мертвых заточек? Каким образом туманность однажды сгущается в яблоко?
Апельсины катятся и катятся по желобу. Выбор, выбор, постоянный выбор.
Может, таким, какой я есть, я стал в ту метельную зиму на южном Сахалине?
Отвергнутая книга, отсутствие перспектив, рецензии А. Загорного.
Южно-Сахалинск,
Вьюжно-Сахалинск,
Нежно-Сахалинск,
Снежно-Сахалинск…
Там, в Снежно-Сахалинске, юный Лёня Виноградский громогласно скандировал в прокуренном кафе «Аэлита»: «Нет, не прощу я Евтушенке это, как Лермонтов ему бы не простил, за то, что в восемнадцать лет поэтом он, гад, в Союз писателей вступил…»
Там юный Тима Кузнецов укорял с эстрады: «По губам по девичьим, пагубам Прашкевичьим, я читаю: марта бич – ты, Геннадий Мартович».
Там Игорь Арбузов рубил кулаком воздух перед обессилевшими от восторга девушками: «Надоели рейды и катеры, ненасытный глаз маяка, на сегодня мы дегустаторы водки, пива и коньяка!» Правда, в книге Игоря, вышедшей позже в Хабаровске, последняя строка после вмешательства цензора читалась несколько иначе: «…детством пахнущего молока».
Гипокризия.
А. Захорный требовал от меня слов, ни в чем не расходящихся с официальной партийной линией. Естественно, я нервничал. Ведь это позже, гораздо позже, подливая мне в рюмку коньяк, Аркадий Стругацкий мрачно скажет: «Вот тоже дело, книгу у него не напечатали! Пора привыкнуть. Садись и пиши новую. Пока ты пишешь, один рецензент сопьется, другого уберут, третий сам уйдет, сам режим к черту сменится. Вот тут и понадобятся рукописи».
Но это позже, гораздо позже.
А тогда, в 1968 году, я думал: вдруг дело в сюжете?
Вдруг, думал я, можно найти такой сюжет, что даже А. Заворный ахнет от чистоты, от нежности, от невероятной глубины чувств, обнаруженных автором.
Например, океан.
Океан как некий сюжет.
Он выкатывается из тумана, он смывает с песков любые следы, катает по убитому, мерцающему, как влажное темное стекло, отливу японские пластмассовые поплавки. Медузы, как жидкие луны, распластаны на песке, с базальтовых черных обрывов срываются такие долгие водопады, что вода не достигает береговой полосы и рассеивается прямо в воздухе. Весь океанский берег острова Итуруп обвешан такими водопадами. Особенно красив Илья Муромец. С океана его видно за десять миль.
Ели Глена, как еловая шерсть, покрывают плоские перешейки, можно на ходу срывать кислые коленчатые стебли кислицы, загребать ладонью клоповку – самую вкусную ягоду мира. Ночью валы, зародившиеся у берегов Калифорнии, вспыхивают на отмелях как молнии. Отшлифованные непогодой стены вулканических кратеров отражают свет звезд, на сколах базальтовых глыб волшебно поблескивают кристаллики пироксенов, если всмотреться, увидишь мутноватые вкрапления ксенолитов – камней-гостей, вынесенных расплавленной лавой из неимоверных земных глубин.
Здесь мимо цепочки островов шли когда-то корабли Головнина и Кука, де Фриза и Невельского, Крузенштерна и Лисянского. Здесь, задымив весь горизонт, брели цусимские смертники – русские броненосцы…
Магнетиты что сажа, а кальциты что сахар.
Прополосканы пляжи, как простая рубаха.
Косы пеной одеты, облака что гусыни.
Ах, на пляжах рассветы, что рассветы в пустыне!
На любом километре волн косматая толочь.
И в рассеянном ветре океанская горечь.
Вот и название для будущей повести: «Пляжи на рассвете».
Я чувствовал: я должен написать такую повесть, мне необходимо ее написать.
Конечно, все мы живем по неким установленным правилам, и легче всего живется именно тем, кто живет по правилам. В дневниках одного известного советского писателя я однажды прочел: «Написал пьесу – неси в театр, в редакцию. Куда еще?» Но сам тот писатель, написав новую пьесу, шел прямо в ЦК. Пять или шесть Сталинских премий – итог правильного понимания.
А куда и с чем идти мне после рецензии А. Зажорного?
В издательство – с некоей доисторической повестью, завалявшейся в столе?
Но А. Заборный опять возмущенно скажет: да что же делается такое? Это же наши предки! Почему у Прашкевича они опять в шкурах? Почему хрипят, воют, рвут желтыми клыками мясо, как недочеловеки? А. Заморному точно не понравится их хрип, их аппетиты, их злобные голоса. Еще Владимир Атласов, открыватель Камчатки, говорил: «А веры там никакой, одне шаманы», но попробуй донеси это до А. Зафорного.
Нет, нет, думал я! Нужен беспроигрышный сюжет.
«Пляжи на рассвете». Светлое название. К нему бы и светлого героя.
Я перебирал фамилии. Тропинин. Михаил Тропинин. Вот превосходная фамилия.
Не какой-то там Фальк, не Шестопер, даже не Сучкин-Рябкин, – хорошая простая коренная фамилия. И у этого Тропинина замечательная работа: он изучает вулканы. Что еще изучать на Курилах? Вулканологов в нашей стране сейчас меньше, чем космонавтов. Еще у Тропинина есть жена. Тоже простая светлая женщина. Правда, у нее зрение по-женски построено. Как в ранних стихах Нины Берберовой: «Я такая косоглазая, сразу на двоих смотрю». Косоглазие тут не физический дефект. Просто жена Тропинина тоже утверждается.
И все это на фоне бескрайнего океана.
Над безмерным океаном дымка ночная, звезды.
Читатель должен задыхаться от нежности, от чистоты.
Правда, дыша перегаром и чесноком, будет, конечно, вламываться в мой кабинет известный островной богодул Серп Иванович Сказкин. «Я пришел наниматься на работу!» – будет реветь он. «Но вы, наверное, много пьете?» – «Да, – еще громче будет реветь Сказкин. – Я пью много, но с большим отвращением!»
Вот как быть с богодулом? Ведь без него повесть пуста.
А внимательный А. Заборный сразу заявит, что Серп Иваныч не вписывается в островной светлый пейзаж.
И как быть с тоской, с островными шлюхами, высматривающими тебя прямо на пирсе? Как быть с завхозом рыббазы, выбросившим на улицу под дождь целую библиотеку – за ненадобностью? Хемингуэй и Гофман, Лесков и Сергеев-Ценский, даже, черт возьми, титаны соцреализма Г. Марков и С. Сартаков покрывались во дворе рыббазы серой пленкой плесени. А попойки в кафе «Восток», заканчивавшиеся грандиозными, как океанский прилив, драками? А рыбак Хавро, славившийся на весь остров чудовищной, как смерть, изжогой, но принципиально принимающий только одеколон «Шипр»?
Наш научный поселок находился в десяти километрах от Южно-Сахалинска.
Стоило завыть метели, отключался свет (рвались провода), исчезала вода (обесточивались насосы), кончался уголь в котельных – кочегары держали температуру ровно такую, чтобы не замерзнуть, лежа на котлах. А я варил на свече кофе и обдумывал сюжет. Давние детские представления о несовместимости жизни реальной и книжной поднимались из подсознания. Вот, скажем, однажды на сопке Батальонной (Итуруп) мы попали в туман, внезапно свалившийся с океана. Промозглый белый туман, в котором собственную руку не видно. Всю холодную ночь мы провели под дождем и ветром, костер разжечь было не из чего – сырой бамбук не горит. Такой эпизод, само собой, просился в будущую повесть, но ведь добравшись в конце концов до лагеря, мы запили. Мы целые сутки выгоняли из организмов холод и стресс исключительно с помощью спирта. Что скажет об этом рецензент А. Заборный?