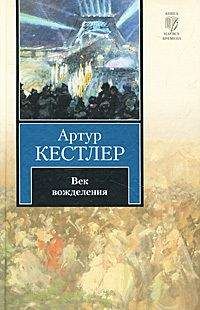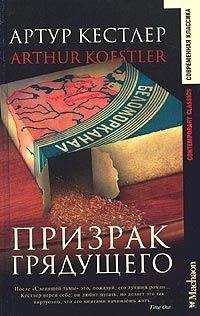Пьер стоял у его столика, улыбаясь вежливой, почтительной улыбкой, которая неизменно появлялась на его лице, когда он разговаривал с Леонтьевым на глазах у гостей, специально пришедших послушать Героя Культуры. Это означало, что пришло время идти переодеваться. Номер сеньориты Лоллиты давным-давно закончился, баронесса подсела за столик к американцам, на что Леонтьев не удосужился обратить внимания; он даже не помнил, как она вернулась из раздевалки. Такие провалы в памяти происходили с ним все чаще с тех самых пор, как он порвал халат и мальчишка из агентства принес ему в отель зловещую телеграмму. Вот и сейчас, как тогда, ему казалось, что он смотрит кинокартину с выключенным звуком. В последние недели звук отключался все чаще, иногда на несколько часов кряду; потом он неожиданно включался снова, и Леонтьев оказывался на незнакомой предрассветной улице или на лестнице какого-нибудь отеля, поднимаясь вслед за заспанной женщиной, полный недоумения, где он ее подобрал, как они тут оказались…
Леонтьев осушил стакан и горделивой походкой двинулся в раздевалку. Там висел запах баронессиных духов, турецких сигарет, с которыми не расставался исполнитель кавказских танцев на цыпочках, и юного пота обворожительной сеньориты Лоллиты. Он снял костюм и туфли, убрал все это в шкаф, действуя не менее аккуратно, чем Дениз, убирающая в ресторанчике его салфетку, и со смесью ностальгического удовольствия и смутного стыда принялся неторопливо облачаться для выхода. В его форме не было ничего карикатурного; это была прочная, хотя и слегка поношенная одежда — неофициальная форма бравых гвардейцев, дошедших в ней до триумфального завершения революции: бриджи неопределенной расцветки, высокие сапоги из грубой кожи, такая же бесцветная гимнастерка с высоким воротом — вот и все. Леонтьев одевался так же на протяжении десяти лет, пока не изменился климат революции, а вместе с ним — и мода… Он взъерошил волосы, закурил и приготовился ждать, превратившись в человека иных времен, — именно так на него действовал этот простой костюм.
Раздался стук в дверь, и в щель просунулась физиономия Пьера, на которой красовалась улыбка, разрезанная надвое шрамом.
— Готово? — спросил он.
Леонтьев кивнул; в такие минуты он был готов поверить, что даже этот шрам имеет революционное происхождение. Физиономия пропала; еще мгновение — и в наступившей тишине зазвучал его голос, просивший у дам и мсье разрешения представить им Героя Культуры, Радость Народа, который прочтет стихотворения и исполнит песни Первых Дней Революции. Голос Пьера,, только что звучавший необыкновенно торжественно, перешел в клич циркового зазывалы:
— Дамы и господа — Герой Культуры, кавалер ордена Революции, Лев Николаевич Леонтьев!
Послышались воодушевленные аплодисменты, которые заглушил туш, и Леонтьев вышел в тоннель. Слегка поклонившись публике в знак приветствия, он без лишних предисловий объявил:
— Я прочту вам перевод отрывка из поэмы Александра Блока «Двенадцать».
Свет погас почти целиком, и в оставшемся красном течении Леонтьев, сопровождаемый аккомпанементом на тему марша буденовской кавалерии, воодушевлявшего миллионы бойцов Гражданской войны, принялся декламировать стихи глубоким, но неожиданно мягким голосом. Сочетание музыки, зловещего света, леонтьевского голоса, выпитого шампанского и так производило на присутствующих сильнейшее впечатление; все имеете, со словами поэмы — необузданного, вульгарного, непристойного, мистического кредо революции, названного кем-то «симфонией грязи» — пробирало с головы до пят. Плосколицая блондиночка зарыдала, и слезы, катящиеся по ее щекам, напоминали в красноватом полумраке капли крови. Смирная парочка в углу дружно уронила головы. Занавес, за которым помещался бар, был, как всегда во время выступлений Леонтьева, приоткрыт, чтобы завсегдатаи, молча застывшие на своих высоких табуретах, тоже могли слышать слова, выученные наизусть.
После отрывка из «Двенадцати» Леонтьев обычно читал собственные стихи. Иногда же, не будучи в форме, он ограничивался Маяковским. В этот вечер он слышал, как за одним из столиков шепчутся, определенно на посторонние темы, и чувствовал доносящиеся оттуда волны враждебности. То был столик номер 7, за которым, пока он переодевался, появились новые клиенты. В слабом красном мареве ему удалось разглядеть, что это мужчина и девушка; несмотря на то, что их лица оставались в тени, форма головы мужчины показалась ему неприятно знакомой. Гадать, кто это, времени не было, — предстояло декламировать завершающие строки «Двенадцати».
Он произносил заключительные слова отрешенным, тихим голосом, что производило неизгладимое впечатление, ибо оркестр в эти минуты смолкал, и воцарялась мертвая тишина. Затем загорался свет. Можно было принимать овации. Леонтьев с достоинством кланялся. В этот раз, невозмутимо дожидаясь, пока смолкнут аплодисменты, он украдкой бросил взгляд на столик номер 7 и узнал атташе по культуре Федора Григорьевича Никитина. Его сопровождала привлекательная темноволосая особа, которую он тоже уже где-то видел. Глаза мужчин встретились лишь на долю секунды, но и этого было достаточно, чтобы Леонтьев понял по нахальной улыбочке Никитина и его суженным глазкам, что тому известно что-то о нем, Леонтьеве; более того, он умудрился догадаться, что означает это «что-то». Ему даже показалось, будто он давно знает это сам — что же еще мог значить его навязчивый сон? Загадочная улыбка, озарявшая Зинино лицо, когда она на четвереньках выползала из окна, поразительно напоминала гримасу, только что исказившую никитинскую физиономию. Они заодно, они знают тайну. Тайна же заключалась, естественно, в том, что Зина сознательно пожертвовала собой, чтобы Леонтьев смог вырваться на волю и написать бессмертное произведение, единственную в жизни честную книгу. Никитинская ухмылка вопрошала: «Вот для чего она это сделала?»
Наконец, аплодисменты стихли. Леонтьев откашлялся и, как водится, начал:
— Короткие стихотворения Владимира Маяковского…
Однако ему пришлось прерваться, так как он с удивлением увидел, как, приметив приподнятый никитинский палец, Жорж, старший официант, виновато взглянув на Леонтьева, опрометью бросился к столику номер 7. Публика недовольно заворчала, девушка прикусила губу, но Никитин не испытывал ни малейших угрызений совести; снизив голос, раз уж того требовали приличия, он заказал бутылку шампанского. Наклонившись над столиком, Жорж разъяснил театральным шепотом, донесшимся до слуха всех присутствующих, что во время выступления мсье Леонтьева напитки не подаются. Со все тем же чистосердечным видом, дополненным обезоруживающей честной улыбкой, Никитин спокойно возразил:
— Но мы хотим шампанского прямо сейчас. Я компенсирую вашему артисту ущерб. — И он снова поднял палец, на этот раз указывая на Леонтьева.
Леонтьев снова испытал знакомое чувство, словно у него в голове отключилась звуковая дорожка. По его телу разлилось приятное тепло; он уже не стоял на мосту, а плыл по течению. Он увидел, как во сне, Пьера, стоящего у противоположного выхода тоннеля и делающего знак Жоржу, и Жоржа, ловко откупоривающего чудом появившуюся у него в руках бутылку. Заворожено подчиняясь никитинскому пальцу, согнувшемуся в крючок, Леонтьев двинулся в его сторону, слыша, как скрипят по половицам его неуклюжие сапоги. Никитин вытянул из бумажника тысячефранковую банкноту и с дружеской улыбкой протянул ее ему. Он понял, что честнее всего будет принять банкноту с коротким кивком, означающим благодарность — только этот жест, свидетельствующий о смирении и крайнем самоуничижении, сможет искупить тщетную Зинину жертву. Он был уже готов развернуться и отойти от столика, когда вспомнил, что справедливость и честь требуют еще одного поступка, никак не зависящего от первого; он взял стоявший перед ним бокал с шампанским и резким движением выплеснул содержимое в лицо Никитину. Продолжая действовать так, как подсказывает совесть, он отвернулся и решительно зашагал к месту, откуда ему предстояло декламировать стихи, в трех ярдах от столика номер 7. Он безразлично внимал зашелестевшему в тоннеле шепоту и мелодии, которую торопливо заиграл оркестр. Пьер поспешил к злополучному столику. Темноволосая красотка, пришедшая с Никитиным, хотела уйти, но Никитин мягко усадил ее на место и, беззаботно утеревшись шелковым платком, словно с ним сыграли невинную шутку, довольно громко объяснил, обращаясь и к ней, и к Пьеру, что все это чепуха, так как никто не станет всерьез обижаться на пьяного болвана. Однако все это уже не имело для Леонтьева никакого значения.
Он ожидал, что оркестр прервется, и он сможет объявить стихи. Но так как музыка не прекращалась и пары вышли танцевать, он повернулся и удалился в раздевалку. Там он переоделся и аккуратно разместил свои бриджи, сапоги и гимнастерку рядышком с облачением сеньориты Лоллиты; затем он решительным военным шагом прошел среди танцующих, миновал бар и направился домой.