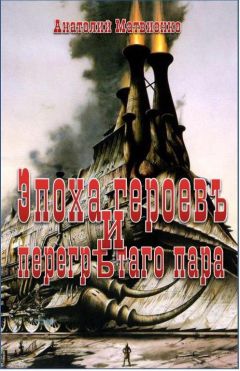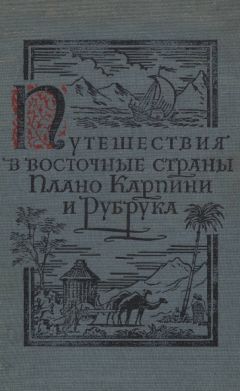Каперанг Павел Степанович Нахимов, командующий «Святителем», точными движениями водил трубой, пытаясь среди обломков, шлюпок и барахтающихся тел найти хотя бы какие-то следы «Тагила». Пострадал ли тот от английских ядер, разрушился ли при взрыве собственной шестовой мины или каверзу сотворили бочонки с пироксилином, запасённые в нижнем корпусе — теперь уже не суть важно. Пятнадцать русских душ и одна германская отправились под воду и оттуда — на небеса.
— Наш выход, господа!
Нахимов отказался топить «Вестфалию», чья команда занялась спасением моряков с двух погибших кораблей, и, обойдя её по длинной дуге, приблизился к «Рейну». Сзади дымил «Кронштадт», и вид двух русских кораблей на фоне погибающих англичан, какой-то час назад казавшихся грозными и непобедимыми, отбил у прусского экипажа всякое желание демонстрировать предсмертную доблесть. По укоренившейся зимней привычке «Святитель» выслал призовую команду, после чего вернулся к переполненному людьми последнему британскому фрегату. Капитан его не имел возражений принять русского у себя на борту.
— Со всей очевидностью, сэр, мне не хотелось бы разбирать «Вестфалию» на доски, когда на ней скопились люди сразу из трёх команд. У нас больше орудий, выше скорость, да и дистанция поражения изрядно превосходит вашу артиллерию. Предлагаю решить дело без крови.
— Я не имею права сдаться, — ответил британский капитан, понимая правоту русского и удивляясь его чистому английскому произношению. — Лучше выброшусь на мель и прикажу уничтожить корабль.
— От вас никто не требует подобных жертв, — качнул головой Нахимов. — Оружие за борт, и ступайте с Богом. Слово русского офицера: вас никто не тронет. И, право, снимите эту тряпку. Над боевым британским кораблём прусский орёл выглядит нелепо. Вы же не стыдитесь Юнион Джека?
Англичанам кровь бросилась в лицо. Но проклятый русский прав — не по сути вещей, а с позиции силы. Капитан нехотя согласился. Адмирала Старка выручило, что в этот трагический момент он не успел выбраться на борт «Вестфалии» и был избавлен от необходимости отдать ужасный приказ.
Если есть в биографии корабля более позорный момент, чем этот, так только сдача его врагу. Стволы артиллерийских орудий словно тела погибших моряков один за одним падали вниз, в пенные брызги, превращая красу и гордость флота в убогое транспортное судно. Может, трюмы пенькой да бочками с жиром наполнить, чтобы унижение было полней?
Когда орудийные лафеты опустели до последнего, русский офицер, приглядывающий за соблюдением соглашения, указал на ружья, которые раздали палубным матросам из боязни русского абордажа.
— Ганз! — русский ткнул рукой за борт. — Офф!
Это против традиций и правил. Обстановка накалилась до температуры кузнечного горна, но представитель победившей стороны был неумолим. Да и как спорить без единой пушки.
Он не стал обыскивать трюмы в поисках завалящего штуцера или пистолетика. Козырнул, сказал «о'кей», по-русски добавил «честь имею», потом неторопливо прошествовал к шторм-трапу.
За борт свесилась люлька, в ней — матрос и ведро с краской, которая быстро легла поверх надписи «Вестфалия», а на штоке взметнулся сине-красный гюйс. Британские экипажи, наверно, даже ценой бунта не согласились бы и далее воевать за Пруссию.
Возвращение ощипанного «Принца Уэльского» в Данциг вызвало шок. Дурная весть испортила расположение духа германцам, предвкушавшим перемирие с русскими на самых невыгодных для врага условиях. Самопожертвование Шильдера и холодный расчёт Нахимова отложили окончание войны на неопределённое время.
Глава десятая, в которой фельдмаршал Паскевич добивается победы, которая, к сожалению для него, не является окончательной
Не имея сил для захвата и удержания всей Восточной Пруссии, командующий решил, тем не менее, наносить главный удар не с западных польских земель, а со стороны Ковно, куда смог по железной дороге перебросить изрядное количество войск. Он рассуждал просто: под стенами Кёнигсберга разговаривать с пруссаками будет намного проще, чем снова отрезая этот кусок королевства. Под угрозой захвата восточной столицы они как шёлковые отдадут польское балтийское побережье, включая Гданьск-Данциг, лишь бы отвести от себя беду.
Решительная битва произошла близ городка Тапиау, где от реки Прегель отделяется рукав, называемый местными Дейма, он течёт на юг. Прусский генерал фон Мольтке надеялся остановить русских на этом естественном рубеже, однако они обрушили огненный шквал на германские позиции и навели переправы через Дейму. Верстах в трёх от неё бронеходы впервые сошлись друг с другом в бою.
Подобно рыцарям из легенд, которые не могли поразить латы противника с первых ударов, железные исполины дрались добрый час. Ни конница, ни панцергренадёрная пехота в том сражении участия не приняли: сначала пушечные гранаты, а потом рой пуль из бортовых картечниц разметали их. Первые ряды пали, остальные отступили, спасаясь от гибели неминуемой и бесполезной.
Две дюжины панцервагенов и три дюжины шестиколёсных русских броненосцев осыпали друг друга стальными болванками. Грохотали выстрелы, гремел металл о металл. Ход сражения определили численность русских и новые снаряды, по чести говоря — опытовые ещё, не опробованные толком. Тагильские умельцы обозвали их по-морскому — брандскугели. Только не круглой формы, как ядра для гладких стволов, а вытянутые, под винтовальную нарезку. С пятисот шагов самые удачливые выстрелы начали пробивать толстую тевтонскую броню, изрядно превосходящую нашу по прочности, но делавшую их вагены малоподвижными. Внутри вспыхивал пожар, а где огонь и порох — итог предсказуем. Когда девятнадцать уцелевших бронеходов миновали линейку неподвижных панцеров и принялись палить по скопившимся там войскам, а конница рванула в охват с юга, прижимая прусскаков к Прегелю и норовя отрезать путь к отступлению, они дрогнули.
И хотя бронеходный полк не штурмовал бастионы Кёнигсберга, что вряд ли возможно по природе военных локомобилей, мрачный вид закопчённых железных колесниц с грозными стволами орудий, открывающийся с городских стен, дал русской делегации возможность отвоевать на бумаге не один десяток вёрст, изрядно сдвинув границы внутрь германских земель. От Мемеля кордон сдвинулся далеко на юг, превратив Куршский залив во внутреннее российское озеро; Польское Королевство включило на западе все земли, когда-либо принадлежавшие Речи Посполитой, и немного ещё.
Овеянный славой и почитая себя самого наравне с Суворовым, князь Паскевич вернулся в Гомель, получив в Москве причитающуюся толику восхвалений и наград. Юлия Осиповна встретила его как всегда — ровно и приветливо, но не более. Странным показался взгляд пасынка — одиннадцатилетнего Володи Строганова. Отрок вступал в пору возмужания, получив от родителй не лучшие черты. От матери унаследовал ляшскую кровь, готовую закипать в приступе безмерной гордости по поводу и без. От отца, коего и помнить не мог — пренебрежение к правилам и авторитетам. Отчима Володя терпел, но не более, и то — по просьбе матери, зато отлично ладил часто наезжавшим сюда Федей Достоевским.