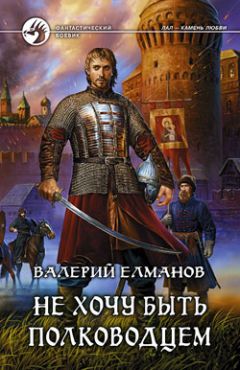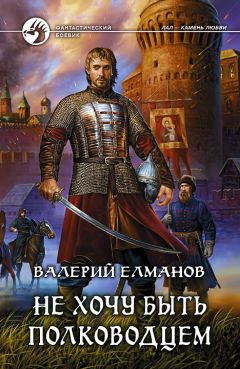— Что, фрязин?! Не мыслил, что я о кознях твоих проведаю?
Странно, а тон совсем не угрожающий. Скорее уж иронично-насмешливый. Таким тоном один приятель другого подкалывает. По-дружески. Тогда зачем меня завели именно сюда? Или все просто — велел привести фрязина к себе сразу же, как только прибуду, где бы он ни находился? И тут же последовал ответ, словно царь и правда услышал мой вопрос:
— Не боись. Ведаю я, что нет за тобой больших грехов.
Успокоил, называется.
— Я за собой и малых не вижу, государь, — заметил я.
— Напрасно, — возразил Иоанн. — Нет такого человека, чтоб век без греха прожил. Малые завсегда есть, и у всех. Даже у меня они имеются. Един бог без греха.
Ишь ты, идеал добродетели выискался. А скромность так и прет: «Даже у меня…»
— Я так мыслю, что ты с ним потому и рассорился, что не схотел душу диаволу продавать да на божьего помазанника умышлять. Егда он умысел свой тайный тебе обсказал, ты с им и разъехался. Выходит, знал… — протянул он с укоризной.
И опять мне невдомек. С кем рассорился? Кто и про что мне рассказал? Ладно, разберемся, а пока лучше помолчать до окончательного выяснения обстоятельств. А голос все журчит и журчит:
— Худо, что не донес, но и ту вину я тебе скощу, ежели ты мне ныне яко на духу, пред святыми иконами обо всем поведаешь. Да помни: внапрасне побожиться — черта лизнуть.
Неужто правда они сюда иконы приперли? Тихонько огляделся и вздрогнул — прямо на меня смотрел Христос. Взгляд тяжелый, скорбный, строго соответствуя месту пребывания. И богородица тоже в унынии. А Никола-чудотворец ничего, держится. Смотрит сурово, и не понять — кого осуждает. А ниже кто? Ну этому тут и впрямь самое место. Единственный святой, икону которого никогда не встретишь в самой церкви — только над входом. Лицо черное, веки опущены — почти гоголевский Вий. Он и живет, согласно народным поверьям, не где-то, а в аду, откуда его бог отпускает раз в четыре года, на 29 февраля. Ишь как грозно на меня выпучился, словно силится припомнить что-то гадкое. Не зря его в народе кличут Касьяном злопамятным.
— Токмо гляди, чтоб без утайки, — донеслось до меня царское предупреждение.
— Все скажу как на духу, ничего не утаю, — машинально ответил я, переводя взгляд на распластанное в дальнем углу тело немолодого мужика.
Да что там — старика, который недвижно лежал прямо на земляном полу, словно не чувствовал жара от двух здоровенных дубовых бревен, уложенных параллельно телу, по бокам от него. Что-то вроде стражей, полыхающих огнем ярого возмущения, направленным против злокозненного смутьяна. Фигура мне незнакома, лицо все в крови — ничего не видно, а вот борода разительно напоминает чью-то. Вот только чью?
— Тогда ответствуй: ведал ли ты о тайных умышлениях князя Воротынского?
Кого?! Так-так… Неужто это?.. Да нет, не может быть! Тот в теле, дородный такой — мы ж вместе с ним не раз парились, так что я хорошо помню. И помоложе Воротынский — эдакий пожилой, но не старый мужчина. Да, повидавший, потрепанный, но еще в соку, еще ничего. Этот же как есть старик. Опять-таки волосы. У Михайлы Ивановича они с проседью, а у лежащего черные, даже слегка рыжеватые. Или то… кровь?!
— Не ведал, государь.
— О чародействе он тебе не сказывал ли? Корешков неких ты у него не видал? Речей непотребных о государе не вел ли? Да не торопись отвечать. Словцо — не воробей. И помни: нам все ведомо.
Я еще не верил, не мог поверить, что там, на полу, лежит именно он. В конце концов, по его делу могли пытать и обыкновенного холопа.
— Не сказывал, не видал, не вел, — чеканил я, стараясь не смотреть в сторону лежащего.
Иоанн задумчиво прошелся передо мной. Невелика пыточная — не разгуляешься, а ему простор подавай. Наверное, именно поэтому и не шла у него мысль — что со мной делать дальше. Вообще-то полагалось пытать, но я надеялся, что он помнит про то, как повязаны наши жизни. Они ведь, если верить моему рассказу, не веревочкой — пуповиной стянуты. Намертво. Один умрет, и второму смерть грозит. Конечно, скорее всего, он не исключал и того, что я вру, но как проверишь?
— Да ты не боись его, — попытался ободрить меня царь. — Ныне мы у него жало вынули… из-под стрехи, так что вреда тебе он не причинит. Бона сколь ядовитых зубов таил, — решил добить он меня не мытьем, так катаньем, подходя к столу и вытряхивая на него содержимое небольшого шелкового мешочка редкого темно-фиолетового цвета.
С негромким стуком на гладкую деревянную поверхность посыпались какие-то корешки. Плавно порхнув в воздухе, с легким шелестом поверх них улеглись сушеные травы. Резкий и неприятно-едкий запах мгновенно разнесся по небольшой комнатушке.
— Ишь какой заботливый, — вздохнул Иоанн. — Бомелий сказывал, что тута не одного человечка — десяток можно в домовину[68] загнать. Елисейка! — повелительно повысил он голос, и из дальнего угла, прямо из-под икон выкатился забавный толстячок. — А ну-ка, поведай фрязину, что ты мне вечор обсказывал, — приказал царь.
— Оный корешок, — послушно начал Бомелий, осторожно подняв двумя пальцами что-то растопыренное и похожее на маленького забавного человечка, — содержит в себе страшный яд, кой расслабляет сердечную мышцу, вызывая у человека вначале…
Я его не слушал. В своем деле вестфалец дока, что и говорить. Все отравы ему известны. Как, из чего, да чтоб посильнее мучился и ровно столько времени, сколько укажет государь. Несколько раз, как и в случае со мной, Иоанн даже устанавливал клепсидру. Пусть и не миг в миг, но почти совпадало. Винить царского отравителя было не в чем — он выполнял приказ, пускай и преступный. Отвечать же за него должен только тот, кто отдал его, но никак не исполнитель, что бы там ни визжали с пеной у рта добренькие дяди-гума- нисты. А исполнитель? Ну разве что перед своей совестью… если она у него имеется.
К тому же как знать — зло он творил или все-таки добро. Как ни крути, а для большинства, да что там — для всех попавших в пыточные подвалы смерть была лишь долгожданной спасительницей от мук и избавлением. Я бы и сам, если б имел выбор — дыба или яд, не колеблясь отдал бы предпочтение последнему.
И потом, насколько я знаю, он не был злым. Англичан, да, терпеть не мог. Рассказывал однажды Елисей, как сидел в лондонской тюрьме, куда его засунули, как он утверждал, по проискам лекарей-конкурентов, причем особо не разбираясь, прав заезжий вестфалец или нет. Отсюда и пошло. Но это были единственные, кому он старался напакостить, как только мог, оказывая помощь их конкурентам — фламандским, немецким, датским и прочим купцам, причем зачастую бескорыстно. Англичане платили той же монетой, распуская о нем всевозможные слухи, истины в которых было от силы на десятую часть.