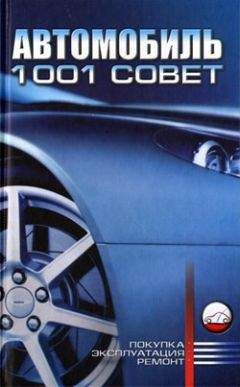в теплом доме.
А тепла-то и нет никакого. Минус тридцать, по Реомюру, подумал Ильич.
— Тридцать градуса мороза, — словно подслушав его мысли, радостно сказал шофер. — По Реомюру, конечно. А по Фаренгейту так все тридцать пять, а по Цельсию еще больше!
— Так вы считаете, что мы поместимся? — повторил вопрос Ленин. — Все трое?
— О, разумеется, разумеется. Со всевозможным комфортом. Машина внутри куда просторнее, чем кажется, — шофер погладил черное лаковое крыло автомобиля.
Из дома вышли Надежда Константиновна и Мария Ильинична. Каждая держала в руке небольшой саквояж: лишнего решили не брать, доктор Магель уверил, что в том нет нужды, в Гельсингфорсе к их услугам будут вполне европейские магазины.
— Что-то вы закопались, — недовольно сказал Ильич. Промёрз, но забираться внутрь автомобиля одному не хотелось.
— Не на пикник едем, Володичка, — отрезала Надежда Константиновна. — Дело серьезное, знаешь ли.
Мария же только покраснела — то ли от мороза, то ли от резкости Наденьки. Изменилась Наденька. Прежде не посмела бы перечить, а теперь вот смеет.
— Извольте садиться, — сказал шофер.
Турок выскочил из салона:
— Прошу заходить, скоро-скоро будет ехать, — сказал он на скверном русском языке.
Внутри и в самом деле оказалось просторно. И тепло, даже жарко, пришлось расстегнуть овчинный тулупчик, который он надел и для тепла, и для конспирации.
Сквозь окошко он разглядел, как на крыльце негр отдает последние распоряжения Тараканову, то есть теперь уже Жукову. Послушался его бывший унтер, и взял короткий и запоминающийся псевдоним. Это Ильичу понравилось. Ленин, Жуков… А Кобу мы прибьём во благовремение. Непременно прибьём.
Наконец, вышел и доктор. Вместе с негром они подошли к машине, но сели не в пассажирский салон, а впереди, за загородкой, вместе с шофёром. Оказывается, и рядом с шофёром места больше, чем кажется.
— Готовы? — спросил шофер. Говорил он, верно, в переговорную трубу, но голос звучал громко и сочно.
— Готовы, — ответил Ильич в пространство.
— Вот и отлично. Ну, милые, тронулись!
— Милые? Что за фамильярность? — пробурчал Ильич.
— Это он не нам, это он машине — сказала Наденька.
— Машине?
— Прежде Селифан был кучером, управлялся с тройкой, вот и привык, — пояснила Мария. Оказывается, они с кучером накоротке! Это хорошо, это правильно.
Он всё ждал, когда же машина поедет — но оказалось, что они уже едут. Ход был плавным до чрезвычайности, так плывет лодка под парусом в тихую погоду во Волге. Давненько он не был на Волге…
Он откинулся на сидение — диван, кожаный диван, с прекрасными подушками, и с запахом свежекупленной очень дорогой вещи. Новый «Рольс-Ройс» в первые месяцы пах примерно так же. Но не умеют, не умеют товарищи ухаживать за иностранной техникой, всё больше кирпичом да кирпичом.
Турок сидел рядом с ним, как изваяние. Охрана? Вид у турка был воинственный, но спокойный.
Наденька и сестра сидели на диванчике напротив, довольно свободно, сидели, держа саквояжи на коленях, хотя и место было и рядом, и на чистейшем, устланном ковром полу. Но нет, не хотят выпустить из рук, глубоко сидят в людях частнособственнические инстинкты.
Товарищ Ленин
Наступит время
Нас поведет
В последний бой
тянул заунывно шофер, пока негр не прикрикнул на него:
— Не кощунствуй! Или снова будешь сдавать экзамены — кто и когда поведет нас в последний бой.
— Это я так, в переносном смысле, — виновато сказал шофёр, и замолчал. Или заткнул переговорную трубу, поскольку больше из шоферской кабины не раздавалось ни звука.
До Герасимовской станции от имения пять верст, но шофер не гнал, ехал едва ли быстрее пятнадцати верст. Зато мотор звучит тихо, никого не встревожит. И фары выключены, ни к чему фары, луна на ясном небе светит ярко-ярко. Словно прожектор в тысячу свечей. Это потому, что всюду белый снег. И видит он даже лучше, чем в молодости.
А вдруг… А вдруг это провокация, и сейчас его завезут прямо в лапы врагов? Приедем, а на станции отряд латышских стрелков?
Нет, ерунда. Зачем тогда его вылечили?
А всё же было неспокойно.
На станции их уже ждал коротенький, в четыре вагона, поезд и паровоз под парами. Но не только латышских, или каких-нибудь других стрелков не было, не было вообще никого — ни станционного начальства, ни работников, ни посторонних лиц. Полное безлюдье, и пустая станция при свете полной луны казалась сном Гоголя.
«Студебекер» подкатил прямо ко входу в вагон.
Турок выскочил первым:
— Можно выходить и следовать в вагон, — сказал он.
Тут подошел и негр.
— Позвольте вам помочь, — протянул он руки к саквояжам женщин.
— Нет, не стоит утруждаться, мы сами.
— Как вам будет угодно, — ответил негр, и провел их к ступенькам вагона, на редкость удобным, подниматься по которым не стоило никакого труда.
— Этот поезд… — начал было Ильич.
— Это поезд Троцкого, — сказал неземетно подошедший доктор. — Но не тревожьтесь, он прошел полную санитарную обработку.
Ленин и не тревожился, а все же было приятно слышать.
Вагон поражал не сколько роскошью, сколько тем, что роскошь эта выглядела свежей, словно и не было этих лет советской власти, словно поезд готовили для его первого хозяина, императора Николая Александровича. Чистота, порядок, легкий запах воска, легкий запах сандала, и легчайший запах серы, верно, след той самой санитарной обработки.
— Это ваш покой, товарищ Ульянов, — сказал негр. — В купе камердинера будет находиться Мустафа. Он обеспечит вашу охрану. А для вас, гражданки, — он обратился к женщинам, — приготовлена вторая половина вагона. Камеристки, увы, нет.
— Мы и без камеристки справимся. Всю жизнь справляемся, — ответила Наденька. Молодец, срезала.
— Вот и отлично. Ужин вам подаст тот же Мустафа.
— Нам не нужен ужин…
— Ну, а завтрак, обед? Поездка дальняя, а скорость поезда, учитывая состояние путей, невелика, дорога займет два с половиной дня.
— Пусть он приносит еду ко мне, а я уж позову… гражданок.
— Отлично, — сказал Антуан. И устроил маленькую экскурсию по вагону. Без этой экскурсии, и в самом деле, можно заблудиться. В семнадцатом году вагон был куда скромнее…
Станция медленно отъехала назад. Иллюзия, конечно, это поезд двигается, а не станция, но двигается он плавно до чрезвычайности.
Наденька и Мария вошли — обустраивать быт.
— Бельё свежайшее, в конверте с пломбой, — делились