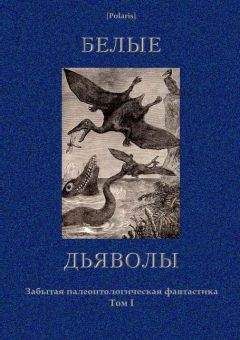Конечно, никакого «чуда» отец Азиний не совершал. Автор не только скверный писатель, но и плохой гидравликус. Судя по всему, болото было вполне проходимым, особенно после того, как сам отец Гуаира построил отводной канал.
Глава XVII
служащая также эпилогом и повествующая о том, как возликовали Небеса
Смерть: А вот и я! Ага!
Илочечонк: «Ага» — твое имя?
Смерть: Вот дурень! Меня не узнаешь? А ну-ка угадай: я худа, я бела и черна, появляюсь — все дрожит, и еще у меня есть кое-что острое. Угадал?
Илочечонк: Бела, черна, дрожит, острое… Понял! Ты — трясогузка!
Действо об Илочечонке, явление семнадцатое
Я повертел в руках серебряную чарку, вздохнул, поставил на стол.
— Как? Не нравится? — вскричал Стась Арцишевский. — Адам! То ж вудка гданська!
Я смолчал — из вежливости. Что вудка, что горилка, что пульке! В полесских болотах не выпьешь «Лакрима Кристи».
— То ты, Адам, бардзо великий зануда, — уверенно констатировал Стась, подливая в чарки из огромной мутной скляницы. — Дзябл! Не надо было тебе в ксендзы, дурная башка! Говорил я тебе,говорил!
Арцишевский, как всегда, прав. Арцишевский, как всегда, пьян. Вот только усы поседели да возле рта легли глубокие морщины.
— Ну, сто лят, друже! Не потонул в болоте, не сгоришь в огне. А повесят — не беда!
За такое не грех было и выпить. Даже вудки.
* * *
Стася я не искал — он нашел меня сам. Я только перешагнул отворенные настежь ворота королевского лагеря, только успел задать первый вопрос насмерть пьяному гусару, как на меня налетел кто-то знакомый, усатый, дышащий перегаром.
Судьба!
Стась все-таки успел на войну. Батарея поручника Арцишевского лихо лупила в упор по татарской коннице. Стрелял ли он по безоружным хлопам, я не спрашивал. Десять лет назад Стась отказался наводить мортиры на восставших негров. Но война домова[25] не знает жалости.
— Ну, то слушай, Адам. — Арцишевский покосился на недопитую скляницу, прищурился. — Про нунция твоего я дознался, у себя он, в шатре. Да только знай: пока не допьем — не отпущу!
Его предки поступали проще. Валили дерево поперек лесной дороги и тащили очумелых путников за стол — пить до полусмерти.
— Отпустишь, — вздохнул я.
Мы переглянулись, Стась обиженно засопел.
— У, холера! Ну, то как обычно! Свинья ты, Адам, хоть и ксендз! Столько лят не виделись!.. Ладно, вали к его мосци, да только не задерживайся. Без тебя пить не стану, слово чести! А придешь, достану вудки берлинской, да щецинской, да еще пейсаховки…
Я решил подождать, пока весь реестр не выплывет наружу. Стась всегда силен в подобных баталиях — даже когда единственным поводом был первый вторник на неделе. Сейчас же гулял весь лагерь, все шановное поспольство. Третий день войско Его Милости праздновало великую победу под Берестечком.
— …А зальем все рейнским, а мало будет — брагой поддадим! Пся крев! Давно с тобой не пили!
Я встал, соображая, где можно найти подходящую по росту сутану. Нунций Торрес, по слухам, весьма походил на мессера Инголи. Только тот стар, а этот, говорят, в самом соку.
— Погоди! — остановил меня Стась. — Ты же узнать просил! Про полоняника этого…
Я замер. Пленными был полон весь табор, но меня интересовал только один.
— Нема такого. Ни Бартаса, ни Бартасенко. Слово чести, у всех спрашивал!
Я кивнул и, не говоря ни слова, шагнул к выходу.
* * *
Надежды не было.
Ее-то и раньше оставалось чуть-чуть. Еще по пути в королевский лагерь все встречные прожужжали мне уши про страшный бой на болоте. Триста реестровцев дрались до вечера, последний, на добытом невесть где челне, отбивался еще целый час — отстреливался, отмахивался «корабелкой»…
Пленных не брали.
Книга без обложки лежала в кармане плаща. Я боялся ее открывать.
«…В скитаниях, без родины и крова,
Как Дон Кихот, смешон и одинок,
Пера сломив иззубренный клинок,
В свой гордый герб впишу четыре слова.
На смертном ложе повторю их вновь:
Свобода. Франция. Вино. Любовь…»
Свобода. Франция. Вино. Любовь… Эх, шевалье!
Служка, встретивший меня у входа в шатер, был толстым, пьяным, наглым и не говорящим по-русинки. По-итальянски и испански, впрочем, тоже. Оставалась латынь.
— Во имя Иисуса Сладчайшего и Святого Игнатия… Когда он выговаривал «амен», его толстые губы уже подрагивали. Еще бы!
— Его преосвященство… Его мосць… Слушать дальше я не стал.
Пожилой коротышка в темной ревендре сидел в высоком кресле с резной спинкой. Толстые окуляры уставились в маленький молитвенник.
— Кто?
Вопрос больше походил на «пшел вон!».
— Во имя Иисуса Сладчайшего…
Пока я произносил условную фразу, окуляры медленно ползли вверх. Маленькие губы еле заметно шевельнулись, сложились в подобие улыбки.
— Ну, здравствуйте, брат Азиний! Я хотел удивиться, пояснить, представиться, но кто-то невидимый уже давил на плечи, шептал на ухо…
— Благословите, отче! — загнусил я, падая на колени и делая вид, что пытаюсь подползти поближе. — Благословите! Ибо грешен я…
Пухлая ладонь неохотно приподнялась, слегка дернулась.
— Во имя Отца… Не будем тратить времени, сын мой! Вы все написали?
Вставать следовало осторожно — не распрямляясь, сутуля спину. Жаль, нельзя вытянуть нос!
— Я вас спрашиваю: написали? Хороший вопрос!
— Ваше преосвященство! — возопил я, вновь падая на колени. — Не сподобил Господь грамотой! Еле-еле по «Часослову» бреду!
Прости меня, брат Азиний!
Внезапно послышался смех — легкий, чуть презрительный.
— Вот уж точно! Ваше письмо из Чигирина я разбирал дня два! Хорошо, сейчас я вызову секретаря, и вы все продиктуете.
Я почувствовал, что меня так и тянет распрямиться. Распрямиться, задать пару вопросов — и понаблюдать за превращением его мосци в дохлую рыбу. Он мне расскажет про ксендза с гитарой! Все расскажет!
А если нет? Приказы из Рима не обсуждаются с первым встречным.
— Отче! — вновь заныл я. — Не сподобил меня Господь не токмо грамотой, но и разумом. Сир я, ваше преосвященство! Темен! Если ваше преосвященство соизволит объяснить мне, недостойному…
Я потупил очи долу, а затем, стараясь не делать лишних движений, покосился на своего единственного зрителя. Не переиграл? Кажется, нет. Мессер Торрес тоже не большого ума. Два года назад он писал в Рим о великом чуде: на поле битвы под Зборовом пал кровавый снег.