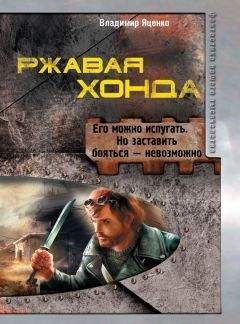– Не так скоро, братец, – добродушно прогудел Чеслав, – давай-ка сперва присядем.
Они уселись на скамейку под окнами чужого дома.
– Эту тварь Николай убил, – сказал Чеслав, – за неделю до отправки на материк. Там он и умер от неизвестной инфекции. За трое суток погибла половина экипажа, и живые решили не возвращаться. До самого конца передавали описание симптомов, по указаниям медиков делали лабораторные анализы. Сегодня – рядовая разновидность зооноза, детишкам в саду прививки делают. А тогда… первые полгода Леся не разговаривала. Ни с кем. Даже с детьми. Мы даже голос её забыли.
– Но зачем она привела меня к чужому дому? – спросил Терентий и тут же пожалел о вопросе.
Можно было не спрашивать.
– Ты казался более сообразительным, – усмехнулся Чеслав. – Со своими станичниками ей знаться не хотелось – ей же не жалость была нужна, а любовь. Вот она и побежала вам навстречу. А про мулга придумала в качестве зачина. С чего-то же надо было начинать? Она же не знала, что с первого раза вытянет своё счастье. Наверное, судьба так наградила за подвиг мужа. По справедливости. Надеюсь, ты не против?
Нет. У Терентия не было претензий ни к жене, ни к жизни. Но одна мысль не давала покоя, мучила:
– Но ведь тогда получается, она с самого начала знала, что там не было мулга? Знала, что я её обманул?
– Кто лучше? – спросил Чеслав. – Мужчина, который отказывается от бессмысленной работы, или мужчина, который делает бессмысленную работу, чтоб угодить женщине? Так что сейчас я больше беспокоюсь за неё. Волнуется, наверное. Она же не знает, как ты отнесёшься к новой правде.
Терентий порывисто поднялся:
– Спасибо, что приехал, братишка! Я очень тебе благодарен.
И он широкими шагами устремился прочь.
– Эй! Погоди! – поднялся следом Чеслав. – Куда ты несёшься, торопыга?!
– В сельсовет, – обернувшись, крикнул Терентий шурину. – Нужно срочно позвонить Лесе. Не хочу, чтоб она волновалась.
Он и вправду очень спешил.
Потому что на этот раз точно знал, как ему следует поступить.
И была среда, и был лёд, и туман, и холод. В глазах – песок, в голове – каша, вдобавок слегка мутило. «Это от недосыпания, – напомнил себе Максим, – Потому что – среда. Вот только холод – это другое. Холод – это от печки. Вернее, от её плохой работы. Работа на грани её отсутствия. Холодно…»
Вообще-то печек – две. Одна тут, впереди дует, безуспешно пытаясь согнать изморозь с лобового стекла. Другая – там, позади, и, судя по жалобам пассажиров, справляется с холодом не лучше. Холодно… что они в этом понимают? Дышат так, что машина льдом изнутри покрывается, и ещё жалуются. Им-то что? Подышали и двинулись дальше, а у него ступни вмёрзли в ботинки. Стадия «пятки в огне» пройдена час назад. Теперь, по ощущениям, сплошной ботиночно-носочный ледовый монолит.
Он подъезжал к «двум столбам», позади три ходки на «Седьмой». Считай, рабочий день, вернее, ночь позади. Остаётся без приключений добраться до гаража, сдать машину – и домой, к Танечке. А там и жизнь начнётся: чай с пирогами-оладьями, укол Надюше… или сперва укол, а потом чай? Максим озабоченно глянул на бортовые часы: пять минут шестого.
«Успею!.. Да ну его к лешему, этот чай, сделаю укол, успокоим ребёнка и под одеяло – греться, спать. После обеда ещё две ходки, а потом пережить четверг».
В пятницу – выходной, «Седьмой» не работает.
Отоспимся. Отогреемся.
Суббота, воскресенье – это пустяки, семечки: по одной ходке утром и вечером. Вот понедельник – другое дело, страшное. С десяти вечера воскресенья до трёх часов дня, и без всякой надежды на сон. «Да и как выспишься: Наденька болеет, укол каждые четыре часа… и Татьяна вот-вот сляжет. И весь сон – урывками, будто в склепе живу: ни разогнуться, ни выпрямиться». И так до пятницы. Но сегодня среда. И до пятницы ещё больше суток…
Он осознал сумятицу мыслей и, чтобы прийти в себя, растёр переносицу: так и до глюков недалеко…
«Глюки – они же галлюцинации – это не страшно. Просто их надо вовремя распознавать. И никому о них не рассказывать. Вчера, например, – стадо обезьян. Я ведь ясно видел, как они бегают по краю освещённого фарами участка дороги. Или ещё пример, как я искал замок на воротах гаража. Минут пятнадцать искал! И нашёл. Едва на рейс не опоздал, люди уже ждали… Или когда крем для бритья положил на зубную щётку, а ещё два раза пытался побриться расчёской. И как злился, что не получается!!! Глюки – это от усталости. Вот послезавтра и отосплюсь. В пятницу рынок не работает. А зря. Будь моя воля, я бы и по пятницам ездил. Кто выдумал эти праздники? На кой ляд они нужны? От чего отдыхать: от попыток свести концы с концами? Так ведь тем более не сойдутся, если дома сидеть…»
Он опустил руку и похлопал по оттопырившимся от выручки карманам куртки. Неплохо. Можно будет заплатить за аренду автобуса на неделю вперёд. Ему хотелось остановиться и пересчитать деньги, но учёт поступлений – это для Татьяны, пока он чай пьёт. Да и немного удовольствия сортировать и разглаживать мятые, надорванные, а порой и подклеенные рублики и двушки.
Максим вернул руку на руль и сказал вслух:
– Мусор… дерьмо! Хоть бы кто двадцатку положил!
И вся его жизнь теперь зависит от этого мусора. А если жизнь зависит от дерьма, то и сама жизнь…
Опять накатила тошнота и отвращение. Холодно… и дочь болеет. Максим непроизвольно сжал руль покрепче. «Как бесценное умещается в малом? Комочек жизни… задница – что мой кулак, третий месяц только, а я ей уколы… вот такая, выходит, у меня родительская любовь».
– Не могу я тебя уважать, Господи, – вырвалось у него внезапно. – Гнева Твоего боюсь, это есть, правда. Беды боюсь, и без того несладко. Но вот с любовью к Тебе как-то не складывается. Допустил человек промашку, не выполнил волю Твою, съел что не положено, и такое сокрушительное наказание. Как-то мелко для Твоего бесконечного величия, не находишь? Кроме того, Адама Ты делал сознательно, по образу и подобию своему. Выходит, он к Тебе ближе, чем мы к детям своим и к родителям. Но никому не приходит в голову отрывать ребёнку руки за то, что он без спросу что-то со стола стянул. Да и наказание Твоё какое-то бестолковое: сколько веков сгинуло, как Адама в землю закопали? Они-то с Евой хоть жрали чего-то с древа познания. Дураки! Лучше бы колбасу нашли. А мы? А я? Я голоден и ничего не знаю, Господи. И рожали меня, не спросив…
Он умолк, потрясённый новой мыслью: что же они такое узнали, что кара была столь велика? Что зашифровано под понятиями «добро» и «зло»? Предположив, что Господь всё-таки справедлив и наказание соответствует проступку, знание, украденное Адамом и Евой, приобретало зловещий смысл…