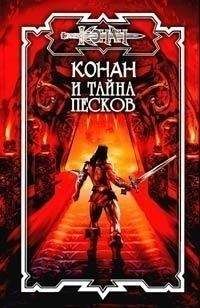Пользуясь моментом (никто же не видит, что в плотной ткани паланкина он проковырял крошечное отверстие и через него может видеть все, что вокруг) Фанцетти разглядывал будущую паству. Пока еще народу немного, но город стремительно оживает: видно, эта пыльная буря уже не первая. Одежда разнообразная и пестрая — даже у бедноты. От многоцветья тюрбанов рябит в глазах, кажется, будто из-под пыли, укрывшей дома и листву, пробились бесчисленные цветы. А уж женские наряды пестрят всеми цветами радуги, и стеклянные браслеты на смуглых руках разбрасывают разноцветные блики. Вон, качая бедрами, прошла красотка со здоровенным кувшином на голове. Длинная юбка пестрит вшитыми кусочками зеркала, и кажется, что вокруг нее мечутся десятки крошечных солнышек. Расписная блузка-чоли скрывает высокую грудь, из-под краешка чоли выглядывает смуглое бедро. Одной рукой красавица придерживает расшитое золотистыми нитками покрывало, другой удерживает на голове кувшин. Как она умудряется удержать и то, и другое в толпе, Фанцетти не понимает.
Но многоцветье красок не может обмануть магистра. Нищета, с недавних пор прочно поселившаяся в городских кварталах, дает о себе знать босыми, сбитыми ногами, застиранными и залатанными талхами, почти утратившими первоначальный цвет, изобилием нищих — вчерашних крестьян и деревенских ремесленников. Луиджи с самого начала знал, что его идея с дамбами и каналами кончится именно этим, но одно дело знать, а другое — самому увидеть результат. На миг он даже почувствовал себя виноватым, но только на миг. «Они сами виноваты — приняли бы истинную веру, покорились Темесе — и ничего этого бы не было. Впрочем, Темеса может и помочь — если Обращение Джайсалмера удастся, первое, что сделает Конфедерация — окажет помощь нуждающимся. Но прежде — сломить сопротивление язычников, препятствующих объединению Аркота под властью Темесы.
Вот тогда Примас Темесский — да что там Примас, сам Предстоятель! — не сможет не оценить заслуги старшего магистра Фанцетти. Глядишь, и светские власти решатся назначить его наместником… Как Клеомена в Медаре, но одно дело — Медар, и совсем другое… Прецедент есть — совместное управление Конфедерации и Церкви в том же Медаре. А если распространить его на весь Аркот, на все три или четыре сотни миллионов черномазых… Это ж сколько сокровищ пойдет в церковную казну, если всех обложить десятиной… А может, даже и пятиной, как недавних язычников! Может быть, его заслуги оценит и сам… Единый-и-Единственный?
Свят тот, кто умирает за истинную веру — так учили дотошные преподаватели еще много лет назад, в Тельгаттее. Какой бы грех не совершил мученик во имя Единого-и-Единственного в жизни, в момент смерти за веру все эти грехи сгорают без следа. Потому нет более почетного дела, чем нести истину диким и невежественным народам. Но ведь важнее не мученическая смерть сама по себе, а победа веры! Значит, победитель в Его глазах должен быть выше мученика, даже если смерть последнего обернется чьей-то победой потом. Стало быть, можно сделать себе некоторые поблажки — о, разумеется, так, чтобы никто о них не знал. Потомки о них не узнают, а Ему важнее победа».
Сперва Фанцетти сам опешил от такой мысли. Но чуть попозже понял: идея-то неплохая, а в завоеванной стране позволено многое из того, что не позволено дома. А та высокая, с кувшином и в «зеркальной» юбке — очень даже ничего, хоть и смуглая. Ну, ее-то искать не стоит, это может броситься в глаза. Но ведь их, глазастых — половина народа, можно же поручить верным людям… Разумеется, сначала надо придумать, как заставить их молчать.
Так, а вот это каменное безобразие с вытесанными развратными картинками — и есть ихний храм Ритхи. Когда начнется Обращение, его надо будет взорвать в первую очередь, на этом месте хорошо встанет кафедральный собор.
— Взвод… стой! — скомандовал Фанцетти, наслаждаясь моментом. Все-таки духовная служба лучше военной: так бы он сейчас маршировал в запыленном строю с тяжеленным мушкетом, командовал отделением из десятка наемников-пуладжей, а то и местных спахи, для которых родина там, где платят. И слово командира взвода, какого-то лейтенантишки Монтини, было бы для него законом. Высунулся к носильщикам:
— Это храм Ритхи?
— Да, саиб, — ответил один и них. «Саиб» — на языке джайсалмери значит «хозяин». Если тебя называют хозяином вчерашние враги, это не может не радовать.
— Прекрасно. Опустите на землю.
Фанцетти вышел из паланкина, мушкетеры выстроились в каре. Душную, стремительно наливающуюся мглой площадь не освежало ни дуновения ветерка. Несмотря на вечер и едва закончившуюся пыльную бурю, народа было много. Фанцетти вспомнил: сейчас вроде бы час вечерней службы, или какой-то праздник… Праздников в этом жарком и пыльном краю столько, что все не упомнишь. А когда делом заниматься? Когда с властью местных раджей будет покончено, надо будет покончить и с этим вольнодумством. Бывшие язычники должны будут искупить грех идолопоклонства и сопротивления темесским саибам. То есть побольше работать и поменьше думать.
— Слушайте меня! — громким, хорошо поставленным голосом, произнес Фанцетти. — Я, магистр Церкви Единого-и-Единственного, приказываю вам остановиться.
Толпа замерла. И само по себе появление белого саиба ничего хорошего не несло, а уж со взводом мушкетеров… Но под наведенными дулами джайсалмерцы замерли, каждому казалось, что черное, зияющее дуло смотрит в лоб именно ему. Тут не было опытных воинов, способных понять, что взвод против многотысячной толпы не устоит. Ненависть к чужеземцам-победителям еще не достигла той степени, когда безоружные бросаются навстречу свинцовому ливню.
— Нет греха большего, чем тот, что вы готовитесь совершить. Тот, кто сотворил не только наш Мир, но и всю Вселенную, может простить любой грех, если согрешивший раскаялся и исповедовался. Но грех сознательного идолопоклонства — непрощаем. Остановитесь, или после смерти отправитесь в ад!
…Все получилось даже лучше, чем он ожидал. Стражники из войска раджи вмешаться не решились: им уже отдали приказ не препятствовать проповедям миссионеров в любом месте, кроме храмов. Площадь же перед храмом Ритхи уже не была храмовой территорией. А толпа не решалась двинуться с места, ее словно пригвоздили к земле поднятые мушкеты солдат. Правда, из ворот храма высунулся старый жрец и попытался спорить. Сперва Фанцетти хотел было отдать приказ «пли!» и указать на жреца. Но решил, что расстреливать идолопоклонников пока рано, а вот посрамить его в публичном споре было бы неплохо.
Так и случилось: жрец оказался на редкость косноязычен, видно, его лучшие деньки давным-давно прошли. Он постоянно запинался, боязливо косился на взведенные мушкеты, и не мог сказать ничего такого, на что у него, второго в своем выпуске, не нашлось бы убедительного ответа. Может быть, тут-то у Фанцетти и появились бы первые последователи, а служба в языческом капище оказалась бы непоправимо сорвана, если бы сквозь толпу не протиснулся молодой солдат и симпатичная девушка. Солдату было лет двадцать, черные, как смоль, усы лихо закручены. Девушка совсем молоденькая. Девушка? Как ни мало провел Фанцетти в этом диком краю, здешние знаки замужества он уже знал. Наверное, жена этого воина…