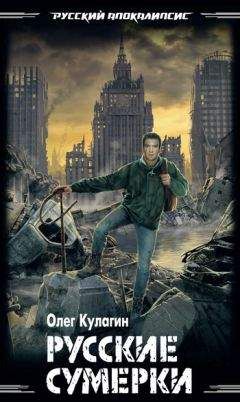Рукав куртки начинает тлеть. Но это фигня!
– Осталось немного, – бормочет Петрович.
И псевдоволки уже близко.
Один догоняет, заходит сбоку. Какое-то время идёт параллельным курсом. Я почти физически чувствую его взгляд. А потом он бросается наперерез!
Отец вскидывает «грач», только выстрелить не успевает – теперь незачем.
Уши закладывает от визга, и дым горелой плоти бьёт в ноздри. В паре шагов от меня корчится почерневшее тело монстра. Столб белого огня прожёг его насквозь!
Мы проходим мимо.
Стая чуть отстаёт, но упорно движется следом.
Призрачно-голубое сияние вырастает на полнеба. И вокруг становится удивительно безмятежно.
Асфальт больше не взрывается у нас под ногами.
Мы одолели полосу огня? Значит, теперь ничто не остановит псевдоволков?!
Холодея, я оглядываюсь. И различаю вдали повернувших назад мутантов.
Струсили, твари!
Я перевожу дух. Выдавливаю:
– Всё-таки отвязались! – Добавляю с надеждой: – Может, и высшие – отвяжутся?
– Эти – вряд ли, – хмурится Петрович.
– По крайней мере, мы прошли Мясорубку…
Отец вздыхает. И я смотрю на него с удивлением:
– Ещё не прошли?
Петрович криво усмехается. Вглядывается вперёд – туда, где голубые молнии змеятся над крышей заводского корпуса. И глухо отвечает:
– Ещё не совсем…
Разрушенное здание. Длинные стебли изменённой травы пробиваются между обломков. Вьются вдоль уцелевшей стены. Трава не зелёная, а серая – будто высушенная палящим солнцем.
Но солнца здесь нет. Уже четыре года…
Вместо него – мертвенный свет, озаряющий укрытое пеленой небо. Источник света – где-то рядом, за ближайшими развалинами.
Мы его обойдём.
Петрович ведёт по узкой полосе сохранившегося асфальта.
Слева – до самых развалин – всё перепахано, как после бомбёжки.
Справа – высокий, заросший фиолетовой плесенью забор. А дальше – трёхэтажный дом, уцелевший в стекловидной массе, будто муха в янтаре. Там размещалась дирекция завода, а сейчас что-то неприятно пульсирует внутри, за матовыми глазницами окон. Едва мы поравнялись с домом, я опять ощутил странный холодок – почти как тогда, с проклятой живой паутиной…
Двигаемся молча.
Наш вожак совсем не спешит. Идёт, будто вдоль обычной улицы.
Но по его напряжённой спине я чувствую, как тяжело даётся ему каждый шаг.
Обогнули дирекцию и остановились.
Почему?
Петрович замер напротив огромного матового наплыва – того, что тянется от здания дирекции до соседнего дома.
Отец вопросительно кашляет. И Петрович глухо объясняет:
– Тут был проход… Раньше, когда ходил Белик.
Соседний дом – тоже запечатан в мутном стекле. Кажется, это бывший цех. Метров на пятьдесят тянется влево. А дальше начинаются подсвеченные голубоватыми сполохами развалины…
Что теперь? Возвращаться, чтоб отыскать другой проход?
Назад, через пояс огня, к ожидающей нас стае мутантов?
Или прямо в лапы к высшим?
Отец и Петрович молча смотрят на развалины. О чём думают? Ведь все равно выбора нет.
Я взмахиваю рукой, указывая вперёд:
– Значит, идём туда…
Отец оглядывается, будто хочет что-то сказать. Но так и не говорит ни слова. Лишь слегка хлопает меня по плечу.
А Петрович делает жадный глоток из фляги. И сплёвывает под ноги:
– Идём!
Запах озона становится острым.
Низкий гул, который раньше едва угадывался, с каждой секундой ощутимей давит на барабанные перепонки.
Мы карабкаемся через перемешанные с землёй куски бетона. Обходим глубокую воронку – я всматриваюсь и различаю на её дне мумию зубастого чудища. Длинное высохшее тело почти разрезано пополам, исполосовано глубокими ранами.
Чуть в стороне, у искорёженной трансформаторной будки, – что-то бесформенное. Лишь по торчащим осколкам костей можно угадать останки живого существа…
Для любого трикстера это означает «Стоп!».
Но мы не останавливаемся. Не поворачиваем назад.
Теперь правила отброшены.
Осталось одно-единственное – никогда не терять голову. И потому я иду вперёд, стараясь ступать след в след за вожаком.
Сердце колотится: так громко, что мне чудится – каждый удар эхом отдаётся под сводами разрушенного цеха…
За расколотой стеной – широкий пустырь. Его края теряются в тумане. Всего несколько уцелевших зданий угадывается вокруг неясными силуэтами. И ближний среди них семиэтажный корпус института – мрачный, тёмный, зияющий глазницами выбитых окон.
Лаборатория отца – у самой крыши. Окна выходят в сторону промзоны. Оттуда и правда можно смотреть на это.
Я думал, что будет страшно.
А оно – красивое… Ещё красивее, чем алый цветок.
Воздух над пустырём колышется, словно в полдень над горячим асфальтом. И там, в зыбком мареве, как снежинки на свету, вспыхивают мириады искр. Кружатся в причудливом танце.
К яркому зрелищу не хватает лишь мелодии. Вместо неё – монотонный гул, который я чувствую даже кожей…
Мы сворачиваем. Двигаемся вдоль кромки развалин. Вероятно, Петрович думает опять выйти к маршруту Белика.
Но через десяток шагов мы оказываемся у края обрыва. Раньше он был замаскирован дымкой. А сейчас…
Я осторожно смотрю вниз и торопливо отшатываюсь.
Очень высоко – дна не видать в тумане. Отвесная, будто срезанная лезвием стена.
Тут не спустишься.
Петрович и сам это понимает. И потому мы идём вдоль обрыва – напрямик через пустырь.
Туда, где хаотично клубятся эти красивые искры.
Я зачарованно их разглядываю.
Из хаоса рождаются полосы, круги… Сверкающие блёстки начинают складываться в настоящие геометрические фигуры. Лишь на мгновение. Опять рассыпаются и заново складываются, будто кто-то встряхивает огромный калейдоскоп.
Петрович ускоряет шаг.
Мы уже почти бежим, проваливаясь в изрытую землю.
А «снежинки» над пустырём порхают в новом танце. Причудливые фигуры сливаются в одну огромную, заслоняющую полнеба. Там, внутри, мерцает многогранник. Мерцает и вращается – как ротор в электромоторе.
Или как нож в мясорубке…
Мы бежим ему навстречу!
С каждой секундой он ускоряется. От мелькания огней уже рябит в глазах. А от нарастающего гула закладывает уши и начинает болеть голова.
Я спотыкаюсь. Мне плохо и жутко.
А ещё стыдно.
Чем я тут собирался хвастать перед мальчишками?
Дурак!
Может, ещё не поздно повернуть? Если спрячемся в развалинах, вдруг нас не найдут – и волки, и те, двуногие?
Петрович оглядывается, указующе машет рукой. Что-то выкрикивает.
Я тоже всматриваюсь в дымку – впереди над обрывом. И сердце радостно ускоряется – да ведь там мост!